XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения
В рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений состоялась работа направления «Древние монашеские традиции в условиях современности»
29 января 2025 года участники работы направления «Древние монашеские традиции в условиях современности» XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений по традиции собрались в Центре Оперного Пения Галины Вишневской рядом с древней обителью на Остоженке, Зачатьевским ставропигиальным женским монастырем, гостеприимно принимавшем в этот день игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.
В президиуме пленарного заседания находились: председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству митрополит Каширский Феогност, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря; митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации жизни монастырей и монашества; митрополит Саранский и Мордовский Зиновий; епископ Лидский и Сморгонский Порфирий, председатель Синодального отдела по делам монастырей и монашеству Белорусского экзархата; архимандрит Стефан (Тараканов), заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря; игумения Иулиания (Каледа), заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря.
Открывая работу монашеского форума, митрополит Павел передал участникам благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и напомнил, что Рождественские чтения стали удобной площадкой для братского общения и обсуждения важных проблем монашеской жизни.
По данным регистрации, на мероприятиях направления присутствовали 504 участника, в том числе 22 архиерея, 99 архимандритов и игуменов монастырей, 49 иеромонахов, 109 игумений, а также 67 насельников монастырей и 38 благочестивых мирян из 143 епархий Русской Православной Церкви, в том числе Белорусского экзархата, Среднеазиатского митрополичьего округа, епархий новых территорий.
Доклады конференции:
«Были крепки во бранех»: воспоминания о митрополите Калининском и Кашинском Алексии
Доклад игумена Дамаскина (Леонова), наместника Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря Тверской епархии на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «“За други свояˮ – подвиг монашествующих во время Великой Отечественной войны» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)
Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории и памяти нашего народа. Доблесть предков, увековеченная Великой Победой, по сей день пробуждает в наших сердцах глубокую признательность.
Время исцелило физические раны: восстановлены разрушенные города и села, засыпаны воронки, где когда-то рвались снаряды, вновь распаханы выжженные поля. Но не стираются из памяти ужасы войны. И незабываемым остается подвиг всех прошедших через горнило Великой Отечественной войны: мирян, священнослужителей, монашествующих.
Среди них – иерарх Русской Православной Церкви митрополит Калининский и Кашинский Алексий.
Виктор Александрович Коноплёв (так звали владыку в миру) родился 10 февраля 1910 года в городе Павловске Воронежской губернии в верующей семье. Отец умер рано, когда Виктору было 12 лет, поэтому воспитание мальчика легло на хрупкие плечи матери – Елены Алексеевны Коноплёвой. Именно она зародила в чистом сердце ребенка веру и любовь к Церкви. Ей удалось воспитать Виктора послушным, тихим и скромным. Ее светлый образ сын пронесет до конца своих дней. Огромную роль в духовном возрастании Виктора сыграл его духовник – священник Евгений Белозеров. С детства Виктор прислуживал в алтаре, а по окончании школы исполнял обязанности регента и псаломщика в Преображенском и Покровском храмах Павловска. На протяжении всей жизни его отличали смирение и кротость, в каких бы жизненных ситуациях он ни находился.
В 1930 году двадцатилетнего Виктора Коноплёва как верующего человека объявили врагом народа и сослали на 3 года в Свирские лагеря [1]. По окончании срока его лишили избирательных прав, теперь он принадлежал к категории так называемых «лишенцев». Владыка вспоминал, что ему не выдавали продуктовые карточки. Было так трудно, что он не мог даже купить себе обувь.
Некоторое время по возвращении из лагеря он снова служил псаломщиком Покровского храма, откуда и был призван в ряды Красной Армии, но в сентябре 1936 года уволен в запас с характеристикой, в которой было указано: «придерживается религиозных убеждений» [2].
В течение нескольких лет Виктор Александрович работал счетоводом-кассиром, а затем павильонным фотографом.
С началом войны, в октябре 1941 года он был вновь мобилизован в ряды Советской Армии и отправлен на Северо-Западный фронт. Будучи рядовым, он исполнял обязанности помощника командира взвода. Был ранен и откомандирован в военно-дорожный отряд. Владыка рассказывал, что сначала руку хотели ампутировать, но операцию всё оттягивали. А потом как-то раз пришел в палату военный доктор, сунул в руку иконку и какой-то мази, сказав: «Сам должен выздороветь, молись». «Вот так рука-то моя и осталась со мною, со ржевской метиной!» – вспоминал Владыка [3].
 Виктор Александрович Коноплев
Виктор Александрович Коноплев
|
«Старшиной я встретил светлый День Победы, – рассказывал он. – Путь к ней был нелегким. Мы теряли товарищей. И я был в двух шагах от смерти, но, по милости Божией, выжил. За выполнение приказов командования (а мне после гибели командира роты приходилось вести ее в бой) было присвоено звание старшего сержанта и вручена награда — медаль “За боевые заслуги”» [4].
В 1945 году Виктор Коноплев был награжден грамотой командующего войсками Ленинградского военного округа Маршала Советского Союза Говорова [5].
Вернувшись в родной Павловск, он два месяца работал преподавателем игры на скрипке в педагогическом училище, откуда был вынужден уволиться, будучи замечен «сознательными товарищами» на клиросе Покровского храма. Это событие не сломило, а только укрепило волю будущего митрополита.
Он работал уборщиком в Никольском кафедральном соборе Воронежа и по совместительству – иподиаконом епископа Воронежского Иосифа (Орехова). В 1947 году, в тридцать семь лет, Виктор Александрович поступил в Московскую духовную семинарию и уже в следующем году был рукоположен в сан диакона (целибата), а по окончании семинарии – во иерея.
На протяжении пяти лет отец Виктор служил в московских храмах. Особенно его запомнили в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке. В церковном хоре этого храма часто пел Иван Семенович Козловский, живший неподалеку, в доме № 7. Дом этот, самое большое здание в переулке, был построен для артистов Большого театра. В нем жили Обухова, Нежданова, Голованов, Лепешинская. Оперные певцы посещали Воскресенский храм. У иерея Виктора был очень красивый голос – тенор, и когда его назначили настоятелем Троицкого храма на Воробьевых горах, Козловский и другие артисты просили Святейшего Патриарха Алексия (Симанского) вернуть полюбившегося батюшку обратно. Патриарх ответил, что на Воробьевых горах тоже просят хорошего настоятеля для восстановления храма.
В 1955 году иерей Виктор окончил Московскую духовную академию и через год архимандритом Пименом (Извековым), наместником Троице-Сергиевой лавры (будущим Патриархом), был пострижен в монашество с именем Алексий. Митрополит Виктор (Олейник), который был ближайшим помощником владыки Алексия, рассказывал, как сам владыка вспоминал об этом важном моменте своей жизни: «По традиции новопостриженный неделю должен пребывать безвыходно в храме. По прошествии семи дней Святейший Алексий (Симанский) поинтересовался у архимандрита Пимена о состоянии новопостриженного. Ответ был таков: “Сидит в храме, молится”. На что Святейший очень строго отреагировал: “Отец наместник, не издевайтесь над будущим архиереем, немедленно освободить!”».
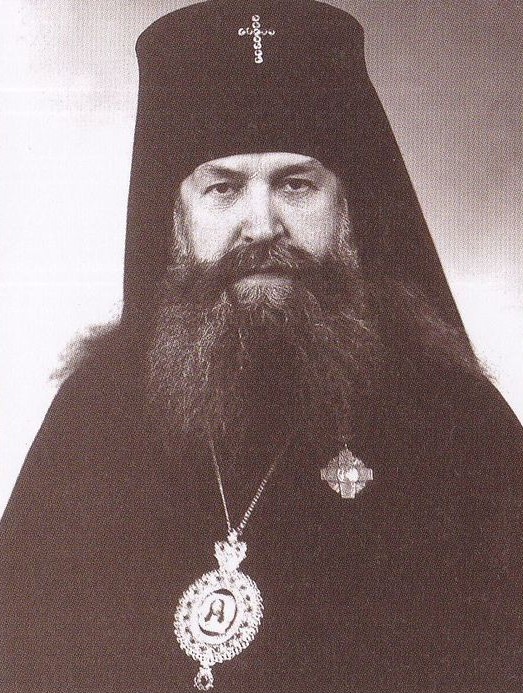 Епископ Алексий (Коноплев)
Епископ Алексий (Коноплев)
|
Вскоре отец Алексий был возведен в сан архимандрита и хиротонисан во епископа Молотовского (тогда Пермь была переименована в Молотов) и Соликамского. Владыка принял свое избрание на епископское служение с глубоким смирением и послушанием – как волю Божию. Произнося речь после наречения во епископа, он сказал: «Это неожиданное изволение высшей церковной власти приводит меня в смущение и трепет, ибо я никогда не стремился к столь великому и ответственному служению. Страх и трепет объемлет меня при мысли о высоте, святости и ответственности сего служения» [6].
На Пермской кафедре владыка Алексий пробыл всего год и затем был определен в Ленинградскую епархию, викарием с титулом Лужский. По прибытии в северную столицу владыка был назначен настоятелем только что переданного Русской Православной Церкви Троицкого собора Александро-Невской лавры. Сотворив горячую молитву, архипастырь взялся за дело. Его стараниями, с Божией помощью, собор был благоустроен в рекордно короткие сроки. Более того, за это время владыка обрел искреннюю любовь и уважение ленинградцев. По окончании ремонта, в июне 1960 года епископ Алексий награждается Патриаршей грамотой и вскоре получает новое назначение. В 1961 году ему определено быть епископом Тульским и Белевским.
В течение двадцати лет архипастырь своей мудростью, трудами, молитвой, талантами помогал сохранить полнокровную церковную жизнь во всех епархиях, где Господь судил ему служить. Он был добрым пастырем для Ленинградской, Тульской, Рижской и Краснодарской епархий.
В 1978 году он был назначен на Калининскую (ныне Тверскую) кафедру. В Тверской епархии, как и в других местах своего служения, владыка часто совершал богослужения на приходах. Архивные документы показывают, что жизнь его была порой слишком насыщенной. Всё пропускал он через свое сердце: смены епархий, сложные отношения с уполномоченными по делам религий на местах, гонения и несправедливое отношение к православным верующим со стороны власть имущих. В то же время в представительских поездках за рубеж он должен был демонстрировать достойное положение священнослужителя в СССР.
Всё это выпало на долю митрополита Алексия, который при этом всегда находил возможность и способ донести до своей паствы слово Божие и свои архипастырские наставления [7].
Управляя Тверской епархией, владыка Алексий обратился к Святейшему Патриарху Пимену с ходатайством об установлении общецерковного дня памяти Собора Тверских святых. Это ходатайство было удовлетворено. Впервые празднество святым, в земли Тверской просиявшим, было совершено 15 июля 1979 года. Владыка Алексий составил текст службы Всем Тверским святым, который и поныне используется нами в богослужебной практике. Владыка сам руководил мужским хором, состоящим из духовенства епархии. Он же сам читал и канон, участвовал в пении катавасии. Первое празднование прошло очень торжественно. Подробное его описание имеется в Журнале Московской Патриархии за 1979 год [8].
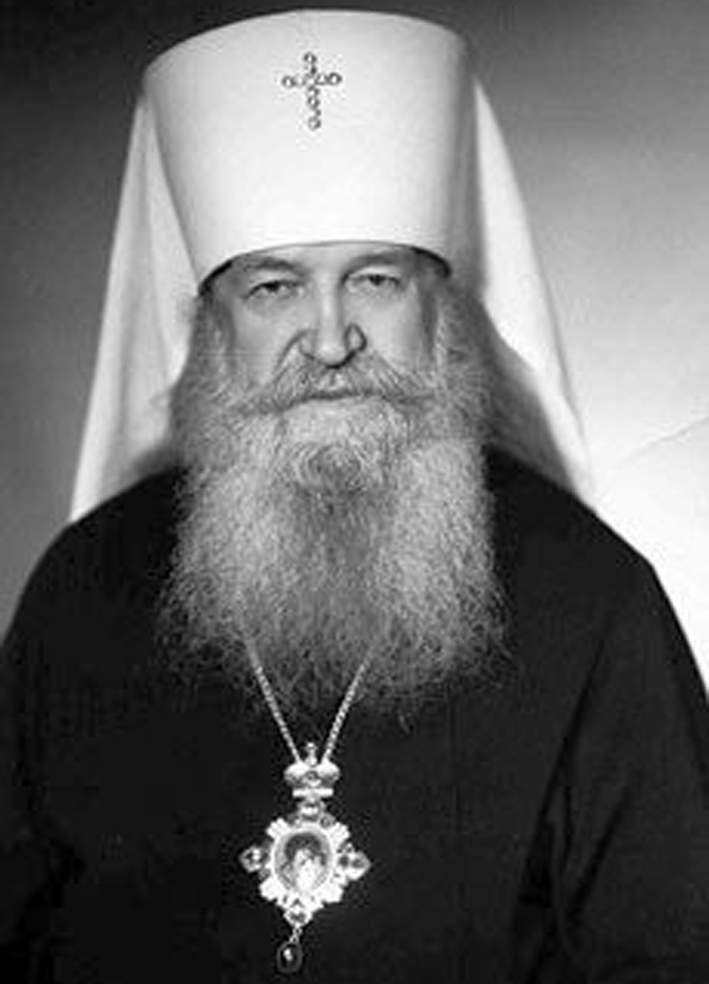 Митрополит Алексий (Коноплев)
Митрополит Алексий (Коноплев)
|
В свободное от архипастырских трудов время митрополит Алексий реставрировал иконы, вышивал золотом, переплетал книги, переписывал нотные партитуры, шил церковное облачение и одежду для самого себя, занимался фотографией и огородничеством, столярничал, также владыка любил церковное пение и хорошо сам пел на клиросе, писал музыку, стихи, рисовал.
Несмотря на высокий сан и такую же ученость митрополит Алексий оставался прост и человеколюбив. Ему были присущи глубокая преданность делу Церкви Христовой, строгое соблюдение Устава, вдумчивое, внимательное отношение ко всем вопросам епархиальной жизни.
Исключительное трудолюбие, скромность, простота в общении вызывали уважение у всех знавших его. Его любили церковные иерархи и простые миряне. По воспоминаниям Тверского духовенства, лично знавшего архипастыря, владыка хранил в себе дореволюционную традицию, пронес этот дух и в советское время. Он бережно относился ко всем церковным установлениям и хорошо понимал, что такое принцип церковного послушания, его никогда не видели раздраженным. Он никогда не повышал голоса, хотя внешне казался суровым. Владыка Алексий любил Россию и искренне верил в ее духовное возрождение.
О времени войны митрополит Алексий рассказывал очень неохотно. Митрофорный протоиерей Василий Киричук, почетный настоятель Богоявленского собора города Вышний Волочек вспоминает: «Это был переломный период. Подходило время празднования тысячелетия Крещения Руси. Помню, как отмечали праздник 9 мая. В Твери священству можно было почтить память воинов до или после праздника, а в день Победы – нельзя. В Вышнем Волочке было принято, что батюшка участвует в праздновании вместе со всеми, поэтому я пригласил владыку на мероприятия. Владыка надел свои медали и ордена как участник Великой Отечественной войны. Это было что-то невообразимое. Такое пристальное внимание было к владыке. Его взяли на трибуну… и с этого времени местная власть стала его приглашать. Позже и в Твери можно было вместе возложить цветы, но Вышний Волочек был у него на особенном положении… наверное, потому что его приняли… Поэтому владыка принял решение отмечать Тысячелетие Крещения Руси с Вышнего Волочка».
В 1985 году к митрополиту Алексию обратилась кинорежиссер Светлана Дружинина. В то время она снимала свой фильм «Гардемарины, вперед». Цензура запретила ей один из отснятых сюжетов в стенах храма. Владыка успокоил режиссера и, благословив съемки в Тверских храмах, сказал, что ее сюжет будет первым свидетельством о Церкви на киноэкране. Отснятый сюжет, как и предрекал владыка, было разрешено оставить.
Благодаря его подвижническим трудам восстанавливались храмы в Туле, Риге, Краснодаре и Троицкий собор в Калинине (ныне Тверь), и совершалось многое, что не вместилось в это малое повествование… Господь судил преосвященному Алексию претерпеть гонения, пройти горнило войны, положить душу за братьев и чад, всей своей жизнью исполняя слова Евангелия: И свет во тьме светит, и тьма не объяла его (Ин. 1:5).
В 1981 году владыка Алексий был возведен в сан митрополита, а в 1988 году во внимание к церковным заслугам удостоен права ношения второй панагии.
 Митрополит Алексий (Коноплев)
Митрополит Алексий (Коноплев)
|
Скончался митрополит Алексий 7 октября 1988 года в возрасте семидесяти восьми лет в поселке Загорянский Московской области после поездки в родной город Павловск. Погребен у алтаря Успенской церкви села Завидово Тверской области. Владыка Алексий был воистину человеком святой жизни, всем сердцем преданным Церкви Божией и своей пастве, очень его любившей.
Читая в Священном Писании слова апостола Павла Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину жизни их, подражайте вере их ( Евр. 13:7), мы, совершая это поминовение, попросим, чтобы Господь уделил и нам от веры митрополита Алексия – от веры, которая позволила ему победить, несмотря ни на какие трудности и испытания, гонения, жестокость и войну, выйти истинным победителем из того горнила испытаний, которое сопровождало историю нашей Матери Церкви, Русской Церкви, на протяжении XX столетия.
-----------------------------
[1] См.: Система исправительно-трудовых лагерей в СССР, 1923–1960: справочник / составитель М.Б. Смирнов; под редакцией Н.Г. Охотина, А.Б. Рогинского. М., 1998.
[2] 27-го отдельного батальона части тылообеспечения от 26 сентября 1936 года.
[3] https://vk.com/wall-87235444_10489?ysclid=m4pz6ebdat37331939
[4] Басюк И., прот. Епископ, воин, гражданин. Журнал Московской Патриархии, 1985. № 5. С. 44–45.
[5] Там же.
[6] ЖМП, № 3, 1956. С. 8–9.
[7] Калининская епархия. Из рубрики «Из жизни епархий». Журнал Московской Патриархии, 1980 г., № 4. С. 14–15.
[8] «Первое празднование Собора Тверских святых». Журнал Московской Патриархии, 1979 г., № 11. С. 15–20.
Братия Оптиной пустыни – защитники Отечества
Доклад епископа Можайского Иосифа, наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь на XXXIII Международных Рождественских образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «“За други свояˮ – подвиг монашествующих во время Великой Отечественной войны» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)
 В самые трудные для нашего Отечества времена Русская Православная Церковь разделяла судьбу своего народа, многие ее подвижники являли пример патриотизма, жертвенного служения Родине. Вспомним Илию Муромца, русского богатыря, по совершении ратных подвигов принявшего монашеский постриг и прославленного в лике святых; преподобного Сергия Радонежского, «отца земли Русской», имя которого навсегда связано с битвой с монголо-татарами; или танковую колонну «Димитрий Донской», созданную на пожертвования верующих.
В самые трудные для нашего Отечества времена Русская Православная Церковь разделяла судьбу своего народа, многие ее подвижники являли пример патриотизма, жертвенного служения Родине. Вспомним Илию Муромца, русского богатыря, по совершении ратных подвигов принявшего монашеский постриг и прославленного в лике святых; преподобного Сергия Радонежского, «отца земли Русской», имя которого навсегда связано с битвой с монголо-татарами; или танковую колонну «Димитрий Донской», созданную на пожертвования верующих.
Будучи одним из важнейших духовных центров России XIX – начала XX века, Оптина пустынь занималась не только духовным окормлением воинов, помогая им исцелить душевные раны, нанесенные войной. Среди ее насельников было немало участников боевых действий: как ветеранов, принявших монашество после долгих лет службы, так и призванных в действующую армию в тяжелые для страны времена.
Оптина пустынь и войны XIX века
Старцы Оптиной пустыни о причинах войн
На протяжении XIX столетия Российская империя участвовала во многих военных конфликтах, среди которых наиболее крупными были Отечественная война 1812 года, Крымская война (1853–1856), длительная и кровопролитная Кавказская война (1817–1864) и несколько Русско-турецких войн.
Насельники Оптиной пустыни не были чужды интересу к событиям в мире. Об этом свидетельствует Летопись скита, которая велась в XIX – начале XX века по благословению старцев и настоятелей. В ней фиксировались не только события монастырской и скитской жизни, но и «Особенно важные и выдающиеся события в церковной и политической жизни России» [1].
Оптинские старцы рассматривали войны и социально-политические потрясения, которые переживала Россия, прежде всего как духовные испытания для всего народа. Как говорит житие преподобного Макария, «каждое крупное событие отечественное… вызывало глубокое сочувствие в отзывчивой душе старца… Несмотря на свои постоянные недосуги и немощи телесные, во время осады Севастополя он просил прочитывать себе известия о ходе ее из ‟Московских ведомостейˮ и при каждой радостной вести или подающей надежду на успех радовался как дитя и славил Бога; а при вести о неудаче скорбел и тужил молитвенно» [2]. Получив горестное известие о взятии неприятелями Севастополя, «старец зарыдал, как любящий отец, потерявший единородного сына. Упав на колени перед образом Богоматери, он долго молился перед Нею без слов» [3].
Размышляя о духовных причинах Крымской войны, старец писал: «Война сатаны против Креста продолжается, и чем кончится, одному Господу известно. Конечно, нам это наказание за грехи наши, однако с милостию и покровом Божиим». Не дерзая делать далеко идущие выводы «о делах Европы и войне нынешнего времени», преподобный утверждает, что «война эта есть перст Божий и бич, наказующий нас, уклонившихся от правого пути и идущих строптивым, широким и пространным, отводящим в пагубу» [4].
А старец Амвросий говорил, что «довольство и изобилие портят людей. От жиру, по пословице, и животные бесятся» [5]. По его словам, мирное время, когда люди наслаждаются благами, часто приводит к духовной апатии и разложению нравов.
Таким образом, по утверждению преподобных, важнейшая причина войн – нравственное разложение общества.
На все усиливающееся отступление от Бога указывал и преподобный Варсонофий Оптинский: «Всюду упадок, разложение. Антихрист явно идет в мир. И этого в миру не признают. Так, ссылаются на то, что подобные времена бывали и прежде, и ничего, однако, не случилось особенного. Так и теперь: ‟Это пройдет, пустяки, давайте пить чай с конфетами...ˮ Ужасная беспечность! Сядут они, а через полчаса Страшный Суд! Что тогда будет с ними? Отсюда, из монастыря, виднее сети диавола, здесь раскрываются глаза, а там, в миру, действительно ничего не понимают» [6].
Старцы видели в войнах не только наказание за грехи, но и возможность духовного пробуждения общества. Когда рушится привычный ему мир, человек начинает осознавать собственную уязвимость и конечность своей жизни. Трудные времена пробуждают людей от духовной спячки, заставляют задуматься о Боге, о вечности. Воины, погибшие на поле брани, по словам старца Макария, «получат оставление грехов, и многие увенчаются нетленными венцами славы небесной», а «оставшиеся ближние их, да и все вообще, страдая о сем сердцем и терпя во многом нужду, невольно оставят роскошь и утвердятся в вере» [7].
От ратного подвига к монашеской келье
За алтарем Казанского храма Оптиной пустыни находится гранитное надгробие, которое часто обращает на себя удивленные взгляды паломников. На нем начертано: «Монах Андрей, в мире генерал-майор Андрей Андреевич Петровский, заслуженный ветеран Русской армии. Участник 85 сражений. Особенно отличился в 1812 году при Бородине, в 1813 году при Лейпциге и в 1831 году в Польскую кампанию». Действительно, судьба этого человека удивительна.
Издревле на Руси было благочестивой традицией принять под конец жизни иноческий постриг или удалиться в монастырь. Это было глубоко осмысленным шагом и никогда не рассматривалось как бегство от мирских проблем или поиск успокоения от житейских забот. Напротив, такое решение становилось началом напряженной духовной работы по подготовке своей души к переходу в вечность. К XХ столетию эта традиция практически сошла на нет, а ныне уход в монастырь человека, достигшего высокого социального статуса, почета и достатка, и вовсе вызывает удивление.
Судьба монаха Андрея, генерал-майора Петровского, являет нам пример жизни как служения: сначала служения Отечеству на поле брани, а затем – служения Богу в монашеской келье.
Андрей Андреевич Петровский (1786–1867) поступил на военную службу в 1804 году, принял участие в 11 кампаниях, включая войну 1812 года, героически сражался в битвах при Бородине и Лейпциге. Своим самым надежным щитом он считал 90-й псалом, который прочитывал, готовясь к сражениям. И Господь сохранил Своего раба – он не получил ни одного серьезного ранения. Выйдя в отставку, Петровский поселился в своем имении, а когда его дочери вышли замуж, решил посвятить оставшуюся жизнь Богу и в 1858 году поступил в Оптину пустынь. Оставив за оградой обители почести, материальный достаток и положение в обществе, он больше никогда не надевал своего великолепного мундира, не требовал к себе особенного почтения или величания «превосходительством», не надмевался генеральским чином и многочисленными наградами. Был внимателен и предупредителен не только к старшим, но и к младшим, усерден к богослужению. Келейник часто заставал его молящимся со слезами.
Вот как сообщает о его кончине Летопись скита за 1867 год: «23 января, в понедельник, в восьмом часу утра, преставился в монастыре генерал Андрей Андреевич Петровский, на 80-м году от рождения, мирною христианскою кончиною в святом монашеском ангельском образе. Жил в монастыре более десяти лет… последние часы своей жизни провел спокойно и так тихо отошел, что и бывшие здесь, в келье, едва могли заметить последние его дыхания. Жизнь его замечательная. В военной службе отличался отвагою и мужеством… охраняемый Господом, никогда не был ни ранен, ни контужен, и прямотою характера. В монастыре жил весьма благоговейно и скромно, занимаясь по благословению старца отца Макария переписыванием книги ‟Ставрофилииˮ в русском переводе, коей написал много экземпляров для родных и знакомых и для монастырской библиотеки. Занимался также лечением, приходивших к нему за медицинским советом принимал радушно и многим помогал. Пользовался в обители любовию и уважением за простодушие и доброту, которые составляли отличительные черты его характера. Оказывал благотворение обители и живущим в ней» [8]. Скончался монах Андрей после канона на исход души, который прочитал над ним оптинский настоятель преподобный Исаакий.
Вскоре его келейнику послушнику Пахомию Тагинцеву было чудесное сновидение. Он увидел прекрасный благоухающий сад, а в нем большой сияющий дом, стены которого были будто из чистого прозрачного хрусталя. В одной из обширных зал этого дома послушник увидел людей, облаченных в блистающие белизной одежды, похожие на иноческие. Все эти люди необыкновенно стройно пели перед иконами Херувимскую песнь. «В это время из крайней комнаты, находящейся на левой стороне, – рассказывал послушник, – очень ясно слышан был мне голос отца Андрея, обращенный ко мне: ‟Видишь ли, брат Пахомий, какой милости сподобил меня Господь? Блажен тот человек, который держится Господаˮ» [9].
Еще один ветеран боевых действий, иеросхимонах Серафим, поступил в Оптину в 1840-х годах. За участие в Отечественной войне 1812 года и Крымской войне он был удостоен боевых наград, стал священником и, овдовев, поступил в монастырь. Живя в обители, отец Серафим «отличался кротостию нрава и приветливостию в обращении, за что и был любим и уважаем братиею. Он был хороший чтец поучений церковных и общий духовник монастырских рабочих и мирян» [10]. В 1876 году он мирно скончался о Господе.
Старец на службе Отечеству: преподобный Варсонофий во время Русско-японской войны
В 1904 году, когда Россия оказалась втянутой в кровопролитную войну с Японией, иеромонах Варсонофий, помощник скитоначальника, духовник Иоанно-Предтеченского скита и будущий старец, был отправлен на фронт в качестве священника при лазарете. Выбор священноначалия был не случаен: От Господа стопы человеку исправляются (Пс. 36:23). С военной службой отец Варсонофий был знаком не понаслышке. В монастырь он пришел зрелым человеком, дослужившись в миру до чина полковника. Его направили в Манчжурию, в лазарет имени преподобного Серафима Саровского, расположенный в китайском Мукдене.
О том, как нелегко ему было оставить благословенное скитское безмолвие, о тех сомнениях, которые смущали его душу, старец впоследствии рассказывал своему ближайшему ученику, послушнику Николаю Беляеву.
«Батюшка говорил мне о том, какая борьба была у него в душе, когда его послали на войну в Муллин… [11] – записал послушник Николай в своем дневнике. – Батюшка почувствовал всю трудность исполнения сего послушания, но не отказался, а принял его как от руки Господней, хотя оно было плодом недоброжелательства некоторых». Слабый здоровьем, немощный шестидесятилетний старец опасался, что не сможет доехать до места назначения, выдержать путь в несколько тысяч верст. «Я думал, что не доеду, – говорил отец Варсонофий послушнику Николаю. – Затем в уме были другие мысли, а именно: как ты будешь служить один, не зная почти богослужения, когда ты еще так неопытен? Как ты будешь отправлять требы, крестить младенцев, когда ты ни разу не крестил? Как ты будешь отпевать усопших, когда ты ни разу еще не отпевал? Как ты будешь ладить с начальством и врачами?.. Как ты сразу из скита попадешь в многолюдство, да еще в женское общество сестер милосердия?.. Как на твое здоровье повлияет климат, к которому ты не привык? И прочее, и прочее… Но я только отбивался молитвой Иисусовой. Когда я это пересилил, враг переменил свои действия, он начал возбуждать к клеветам на меня едущих со мною. Это было очень тяжело» [12].
Летопись скита от 9 апреля 1904 года сообщает: «Сегодня отбыли из скита иеромонахи скитские отцы Адриан и Варсонофий, назначенные высшею церковною властию на место военных действий на Дальнем Востоке для духовного утешения и напутствования раненых воинов» [13].
В мае 1904 года, преодолев тысячи верст и 19 суток пути, отец Варсонофий прибыл в Харбин. Оттуда он писал преосвященному Вениамину, епископу Калужскому: «28 апреля прибыли в Маньчжурию… От станции Маньчжурия дорога, на всем протяжении ее до города Харбина, 85 верст, уже охраняется войсками – разъезжают конные солдаты и казаки. Незадолго до нас изловили японцев, которые хотели взорвать туннель железной дороги у Хингана, во время хода поезда в сорок вагонов с войсками. Бог спас – взрыв последовал после проследования поезда. Всех их судили военным судом и повесили в Ляояне. На станции Маньчжурия обрадовала нас весточка об удачном нападении на японцев генерала Реннекампфа с двумя полками казаков, причем японцы понесли страшные потери… Утешил нас вид русских церквей на станциях Сибирской железной дороги. Кругом пустыня. Но вот – церковь и вокруг нее группируется несколько, десятка два-три, домиков. Это Русь Святая в маленьком виде. И светло и отрадно становится на душе. В Харбине с вокзала мы все проехали в здание Красного Креста, где нас приютили и оказали радушный прием… Русский Харбин расширяется, и его можно сравнить с любым небольшим уездным городом. Есть в нем три церкви деревянные, служба совершается ежедневно» [14].
В августе 1904 года отец Варсонофий сообщает настоятелю Оптиной пустыни архимандриту Ксенофонту следующее: «Вот уже три месяца минуло со времени прибытия моего в Муллин… Госпиталь наш есть отделение Тамбовской общины Красного Креста, основанной во имя Тамбовского святителя, епископа Питирима… Госпиталь полон больными и ранеными, которых привозят с поля сражения из-под Ляояна. Одни выписываются и отправляются в армию, а вместо убывших прибывают новые. Всех ныне в госпитале до 250 человек и ожидается еще 100. Наличный медицинский персонал невелик: 5 врачей, 15 сестер милосердия и 20 санитаров. Для всех хватает дела, особенно сестрам достается – и ночью, и днем идет неустанная работа. Уход хороший. Приходится исповедовать и приобщать Святых Таин болящих и утешать их духовно, как Господь вразумит» [15].
Под Мукденом, главным городом Маньчжурии (ныне Шэньян) с населением в полмиллиона человек, были расположены хорошо укрепленные позиции русских войск, сосредотачивались резервы. О своей жизни в прифронтовом городе отец Варсонофий рассказывал в письме игумену Ксенофонту: «На станции Муллин церкви нет. Мне отвели, по просьбе моей, временное помещение в пустой казарме, и я устроил там молитвенный дом на средства, собранные по подписке. Устроен недавно иконостас, и я испрашиваю у преосвященного Иннокентия, который живет в Пекине, разрешение служить Литургию на выданном мне Московской Синодальной конторой освященном антиминсе… Большую часть времени провожу в госпитале Красного Креста и иногда устаю не от трудов, а от жаров, которые в Маньчжурии очень велики. Муллин расположен по железной дороге, на речке с прекрасной водой и в живописной местности: кругом горы, покрытые лесом и кустарником, в которых водятся медведи, тигры и даже львы, как меня лично уверяли китайцы...
Один я здесь одинешенек, ни посоветоваться, ни побеседовать на пользу моей окаянной души тоже не с кем, хотя хороших людей и много вокруг меня… Жизнь моя, в общем ее ходе, такова: встаю в 2 часа утра и совершаю утренние молитвы, 1-й час и полунощницу. Затем ложусь и встаю в 6 часов утра, совершаю 3-й и 6-й часы и изобразительные. Пью чай с хлебом. Затем занятия домашние и в госпитале, обед – в Красном Кресте… Отдыхаю час, затем опять в госпиталь. Вечером в 10 часов читаю вечерние молитвы и 9-й час и ложусь спать. Часы заменяю молитвой Иисусовой. Пятисотницу почти оставил, хотя не теряю надежды с помощью Божией опять начать и проходить, как должно. Вообще, во многом поотстал от Оптины порядков» [16].
Совершая свое служение посреди моря человеческих страданий, постоянно подвергаясь смертельной опасности, старец не терял надежды на возвращение в Оптину и веры в победу православного воинства. «Верую вместе со всеми православными русскими людьми, что непостижимая Божественная сила Честнаго и Животворящаго Креста победит и раздавит темную силу глубинного змия-дракона, красующегося на японских знаменах» [17], – писал он в монастырь.
Именно под Мукденом 19 февраля 1905 года началось самое масштабное, продолжительное и кровопролитное сражение Русско-японской войны. После оставления крепости Порт-Артур и череды военных неудач русская императорская армия, имевшая численное превосходство над противником, была не в лучшем психологическом состоянии. Битва развернулась на фронте общей протяженностью до 150 километров. С обеих сторон в «Мукденской мясорубке» участвовали около полумиллиона солдат и офицеров. Атаковав первыми, японцы прорвали фронт. Имея значительный численный перевес, русские войска были сильно рассредоточены, а высшее руководство допустило ряд серьезных просчетов. В результате командующий генерал Куропаткин подписал приказ об отступлении, которое проходило под огнем врага и постепенно превратилось в беспорядочное бегство. Эти события по всей стране вскоре стали называть «Мукденской катастрофой». Сражение, в котором русские войска потеряли порядка 90 тысяч человек, продолжалось 20 дней и совпало по времени с началом революционных волнений в Петербурге.
Старец Варсонофий стал очевидцем этих трагических для всей России событий. С честью исполнив свое служение, преподобный был награжден наперстным крестом и 1 ноября 1905 года возвратился в Оптину пустынь. В 1907 году он был возведен в сан игумена и назначен скитоначальником.
Известно, что война выявляет самые неприглядные стороны человеческой природы, и старец, несомненно, был тому свидетелем, однако более всего его поразило иное – величие души русского человека, его духовная красота. «Только теперь, – писал он, – когда я встретился лицом к лицу с русскими ранеными воинами, офицерами и солдатами, я убедился, какая бездна христианской любви и самоотвержения заключается в сердце русского человека, и нигде, может быть, не проявляются они в такой изумляющей силе и величии, как на поле брани. Только в тяжкие годины войн познается воочию, что вера Христова есть дыхание и жизнь русского народа, что с утратою и оскудением этой веры в сердце народа неминуемо прекратится и жизнь его. Каждый народ ставит те или иные задачи, которые и составляют сущность, содержание его жизни, но у русского народа одна задача, которая коренится в глубине его души. Это – вечное спасение его души, наследие вечной жизни, Царства Небесного» [18].
Первая мировая война и Оптина пустынь
Оптинские насельники – воины Первой мировой
Начало Первой мировой войны стало серьезным испытанием для Оптиной пустыни. Вот хроника тех событий в сообщениях Летописи скита.
Июль 1914: «17. По случаю объявления Австрией войны Сербии в России объявлена мобилизация четырех военных округов. 18. Объявлена общая мобилизация. Из оптинского братства около 50 человек призваны на действительную службу. 19. После литургии скитоначальник отец Феодосий соборне служил напутственный молебен. Отъезжающим на войну скитским братиям был устроен чай у скитоначальника. 20. По случаю отъезда братий, призванных по мобилизации, преосвященный Михей служил напутственный молебен. Трапезовали скитяне в монастыре. Из скитян призваны на службу: рясофорные монахи отец Сергий (Мозель), отец Александр (Аваев), отец Павел (Челушкин), отец Григорий (Ермаков), отец Григорий (Хардиков); послушники брат Иоанн Даланов, брат Иоанн Кулигин, брат Петр Швырев и брат Иоанн Каширин. 22. Германия объявила войну России и Франции. 23. Англия, Япония и Бельгия объявили войну Германии. 27. Получено известие о том, что Австрия объявила войну России. Отправился из скита в город Жиздру призванный из отставки на действительную службу подпоручик Мозель (рясофорный монах отец Сергий)» [19].
Далее следует запись о том, что Летопись прерывается, так как «летописец отец Александр (Аваев), как запасный офицер, был взят на войну и уехал в действующую армию, на Западный русский фронт» [20].
Согласно законам Российской империи, от призыва освобождались священнослужители и монахи, постриженные в мантию и великую схиму. Однако рясофорные монахи и послушники подлежали мобилизации наравне с прочими подданными империи.
В конце 1915 года в Летописи сообщается о следующих переменах в составе братства: «Взяты на войну: иеромонахи: Адриан – по изъявлению согласия на приглашение, Осия; рясофорные монахи: Сергий (Мозель) – офицером, Александр (Аваев) [(библиотекарь)] – офицером, Павел (Челушкин) – в плену, Иоанн (Беляев) – доброволец, Григорий (Ермаков) – был в плену и вернулся в скит в начале 1916 года, Григорий (Хардиков); послушники: Иоанн Кулигин – в канцелярии Софийского полка, Иоанн Даланов – в обозе, Петр Швырев – [в плену], Иоанн Каширин, Сергий Ливенцев – в плену в Германии, Петр Барыбин; Илия Дювернуа – на военной службе летчиком… Послушник Илия Дювернуа – на военную службу летчиком по добровольному желанию, послушник Стефан – по добровольному желанию 4 марта 1916 года… послушник Павел – взят на войну, послушник Иоанн – на войну» [21].
Всего в 1914 году из Оптиной пустыни было призвано 53 насельника, и большинство из них имели рясофорный постриг. Среди них были представители разных сословий и уровня образования, от простых крестьян до дворян. Многие из призванных имели предшествующий военный опыт и навыки: среди них были фельдшеры, писари, артиллеристы. Их судьбы сложились очень по-разному – и на фронте, и в последующее время.
Так, исследовав сведения о 53 насельниках Оптиной пустыни, призванных в действующую армию в 1914 году, можно сделать следующие выводы [22].
Попали в плен 16 человек:
1. Аваев Александр Михайлович, впоследствии протоиерей. 2. Ананишин Емельян Лаврентьевич, добровольный послушник. 3. Бутримов Иосиф Никитич, добровольный послушник. 4. Гергалов Григорий Кондратьевич, добровольный послушник. 5. Григорий (Хардиков), рясофорный монах. 6. Иванов Василий Иванович, добровольный послушник, после плена вернулся в монастырь. 7. Карпов Арсений Федорович, добровольный послушник. 8. Лаушкин (Ловушкин) Сергей Игнатович, послушник. 9. Мартынюк Николай Евтихиевич, добровольный послушник. 10. Насонов (Анохин) Тихон Иванович, добровольный послушник, вернулся из плена в 1919 году. 11. Николаев (Чернавин) Карп Наумович, добровольный послушник. 12. Павел (Соломенцев), рясофорный монах, вернулся в монастырь. 13. Павел (Челушкин), рясофорный монах, вернулся в монастырь не позднее марта 1919 года. 14. Петровский Матвей Иванович, послушник. 15. Савенко Фока Иванович, послушник. 16. Туровцев Яков Алексеевич, добровольный послушник. 17. Чумаков Александр Павлович, добровольный послушник, по освобождении из плена вернулся в Оптину.Погибли 2 человека:
1. Костюченок Захарий Филиппович, добровольный послушник, погиб смертью храбрых 14.09.1916 года. 2. Петр (Труш), рясофорный монах, вернулся с войны и скончался в монастыре 21.11.1915 года.Числились пропавшими без вести 7 человек:
1. Алябьев Гавриил Флорович, послушник. 2. Астанков Василий Степанович, добровольный послушник. 3. Бабич Авраамий Леонтьевич, добровольный послушник. 4. Климук Василий Степанович, добровольный послушник (позже он числился в оптинской трудовой артели). 5. Коновалов Михаил Павлович, добровольный послушник. 6. Криволапов Флор Захарович, добровольный послушник. 7. Федьков Тимофей Филиппович, добровольный послушник.Таким образом, из 16 человек, попавших в плен, достоверно известно о возвращении в монастырь 5 человек. Из 53 человек документально подтверждена гибель только двоих, причем послушник Захарий погиб на поле боя, а рясофорный монах Петр (Труш) скончался уже в монастыре, возможно, от ран или болезни. Большинство ушедших на войну были добровольными послушниками, послушниками или рясофорными послушниками. Многие из вернувшихся впоследствии пострадали в годы репрессий. «Не возвратившимися из армии по неизвестной причине» числятся всего несколько человек.
В качестве интересных деталей судеб братий, принимавших участие в боевых действиях Первой мировой, можно отметить следующее:
– многие из вернувшихся с фронта и из плена продолжили монашескую жизнь, некоторые впоследствии стали священниками, многие подверглись репрессиям;
– несколько человек стали преподобномучениками: иеромонахи Евфимий (Любовичев), Игнатий (Даланов) и Рафаил (Тюпин);
– некоторые после возвращения с фронта были призваны в тыловое ополчение или Красную армию.
Примечательны также судьбы скитского летописца рясофорного послушника Александра Аваева, который после освобождения из плена стал священником в Германии, затем служил в Польше. Послушник Иван Кулигин после Первой мировой стал священником, во время Великой Отечественной войны оказался на оккупированной территории и ушел вместе с отступающими немцами в Румынию, но с приходом советских войск в Восточную Европу был арестован, репатриирован в СССР, осужден на 10 лет, в 1954 году освобожден [23].
Таким образом, большинство насельников монастыря, призванных в действующую армию, несмотря на все испытания, сохранили верность монашескому званию, многие возвратились в монастырь, впоследствии были изгнаны и подвергнуты репрессиям.
Настоятель архимандрит Исаакий (Бобраков) и патриотическая деятельность Оптиной пустыни в годы Первой мировой войны
Отец Исаакий (Бобраков) принял настоятельство в трудное для России время: началась война, в стране нарастали признаки грядущей смуты. Согласно послужному списку, он «Определением Святейшего Синода от 7 ноября 1914 года за № 10229 назначен на должность настоятеля Козельской Введенской Оптиной пустыни с возведением в сан игумена и архимандрита 16 ноября 1914 года» [24].
Постепенно, в ходе войны, в монастыре нарастали трудности быта, нужно было и содержать братию, и помогать бедствующим. Местные жители, испытывавшие нужду и голод, искали в монастыре поддержки и материальной помощи. В Оптину, к старцам, по-прежнему ехали паломники; кроме того, начали прибывать беженцы из тех мест, где шли сражения, в том числе и священники, вынужденные оставить свои храмы [25].
Между тем, призыв на фронт большого количества молодых иноков и послушников вызвал в монастыре и скиту нехватку рабочих рук и затруднения в исполнении послушаний. «На этих днях происходила большая варка квасу, – пишет скитской летописец. – За недостатком молодых и крепких сил стала все более и более ощущаться затруднительность в отправлении необходимых послушаний. Надеясь на помощь Божию, скитяне стараются все делать монашескими, своими руками, лишь в неизбежных случаях прибегая к содействию рабочих и совершенно избегая труда женского, тогда как в монастыре за недостачей рабочих рук не гнушаются и последним» [26].
В Летописи появляется все больше записей, соединяющих в себе события мирной жизни и реалии военного времени: «Возвратился в скит келейник отца скитоначальника рясофорный послушник отец Григорий Ермаков, взятый на войну и находившийся в плену у немцев, – определен на прежнее послушание второго келейника, а бывший до него второй келейник послушник Стефан переведен на кухню» [27].
Вот запись от 31 июля 1916 года: «К прискорбию, сенокос и уборка происходили с большим затруднением, и сено очень много пострадало от сырости. В отличие от прежних лет, в нынешнем особенно ощущался недостаток братии на летней уборке, так что работы исполнялись по преимуществу трудом наемным, и главным образом женщинами, беженками и из местного населения. Все, что было крепкого, молодого, здорового, физически сильного, взято на войну; остались старые, увечные, больные, убогие, слабые и немощные. Да будет во всем воля Божия» [28].
К концу 1916 года в монастыре все острее ощущался недостаток во всем жизненно необходимом. В июле 1917 года был впервые установлен и хлебный паек для братии: «28-го числа прошедшего месяца установлена и у нас в монастыре мера хлеба – в 1 фунт на брата. Надвигается, а местами и начинается уже голод» [29], – сообщает Летопись.
Несмотря на это, обитель продолжала отзываться на просьбы о помощи пострадавшиx от войны, все более сокращая собственные потребности. При наплыве беженцев из Польши и Белоруссии Оптиной было предложено предоставить для них помещения. Архимандрит Исаакий отдал беженцам одну из гостиниц, а для больных тифом – больничный корпус. В конце войны еще одна гостиница была определена под приют для осиротевших детей. Монастырь помогал различным благотворительным организациям, на свои средства содержал около шестидесяти человек беженцев и лазарет для раненых воинов [30].
Заведовал временным монастырским лазаретом для больных и раненых воинов иеромонах Пантелеимон (Аржаных, будущий преподобномученик), имевший образование фельдшера. Известно, что в оптинский лазарет был отправлен на излечение Борис Тюпин (будущий иеромонах Рафаил, преподобномученик), получивший ранение на фронте.
Монахи как защитники Отечества: от истории к современности
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя (Ин. 15:13) – эти евангельские слова отражают суть воинского служения. Солдат защищает родную землю с оружием в руках, охраняет внешние рубежи государства. Но и монах по своей сути – воин Христов, и у него есть сильнейшее оружие – молитва. Он ведет невидимую брань с врагом нашего спасения, ограждая молитвой не только обитель, но и свое Отечество, и мир. Оба эти служения, каждое своим образом, направлены к единой цели – защите и сохранению родной земли и ее народа.
История Оптиной пустыни подтверждает эту связь. Находясь в действующей армии, оптинские братия исполняли свой долг, привнося в воинскую среду особое измерение – измерение вечности. Они всегда помнили о том, что даже в разгар смертельной битвы человек должен оставаться человеком, который есть образ Божий. Но при этом важно понимать: непосредственное участие инока, послушника в боевых действиях – это особый, исключительный путь, который возможен лишь в час крайней опасности для Родины.
Отметим также и то, что среди насельников современной Оптиной пустыни были два ветерана Великой Отечественной войны, удостоенные многих правительственных наград. Это игумен Симеон (Ларин, 1917–2015) и схимонах Иринарх (Кусков, 1927–2015).
Современная Оптина, унаследовав традиции своих предшественников, продолжает дело духовной защиты Отечества через молитву и предстательство перед Богом. Ведь любовь к Богу неотделима от любви к ближнему, а значит – и к Родине.
Заключение
Историю братий Оптиной пустыни как защитников Отечества следует рассматривать как переплетение духовного и воинского служений. Документы свидетельствуют о том, что немногие оптинские монахи, принимавшие участие в войнах XIX века, были ветеранами, избравшими монашеский путь после завершения службы. Для них монастырь стал местом очищения от грехов и подготовки к жизни вечной.
В начале XX века мы наблюдаем совсем иную картину. С началом Первой мировой войны многих молодых насельников Оптиной пустыни призвали на фронт. Это были иноки, послушники и трудники, которые не по своей воле оказались на передовой, но, будучи верными сынами Отечества, исполнили свой долг с честью. Многие из них вернулись в обитель после демобилизации и продолжили монашескую жизнь.
Трагедия революции 1917 года показала, к каким катастрофическим последствиям может привести отказ от духовных ценностей и нравственное разложение общества. Оказалось, что испытание мировой войной стало только началом грядущих тяжелейших скорбей. Монастыри, в том числе и Оптина, подверглись гонениям, насельники были репрессированы, но сохранили веру в Бога и любовь к Отечеству.
Сегодня обращение к духовному наследию предшествующих поколений приобретает особую значимость для защиты Отечества от чуждых и разрушительных влияний. Только сохранение православной веры и нравственных устоев могут уберечь наше общество от новых бед.
-----------------------------
[1] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2022. – Т. 2: 1900–1918. С. 9.[2] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие оптинского старца Макария. Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. С. 422.
[3] Там же. С. 425–426.
[4] Там же. С. 422–423.
[5] Собрание писем блаженной памяти Оптинского старца иеросхимонаха Амвросия к мирским особам. Ч. 1–3. 1-е изд. Сергиев Посад, 1908. Ч. I. С. 194.
[6] Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Никона). Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2010. С. 199–200.
[7] Агапит (Беловидов), схиархим. Житие оптинского старца Макария. Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. С. 423–424.
[8] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 1: 1820–1882. С. 513–514.
[9] Электронный ресурс: https://azbyka.ru/otechnik/Zhitija_svjatykh/optinskij–paterik/3 дата обращения 21.01.25.
[10] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 1: 1820–1882. С. 715.
[11] Так в рукописи. В письмах старца Варсонофия встречается двоякое написание города, в котором располагался лазарет: Мукден и Муллин.
[12] Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского старца Никона). Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2010. С. 245–246.
[13] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 73.
[14] «Прибавления к Церковным Ведомостям», 1904 г.
[15] Архив Оптиной пустыни.
[16] Архив Оптиной пустыни.
[17] Там же.
[18] Архив Оптиной пустыни.
[19] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 205.
[20] Там же. С. 206.
[21] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2 : 1900–1918. Т. 2. С. 209–210.
[22] Электронный ресурс: https://www.optina.ru/23_optinskie_naselniki_uchastniki_pervoj_mirovoj_vojny/ дата обращения 21.01.25.
[23] Насельники Оптиной пустыни XVII–XX веков: биографический справочник / сост., вступ. статья иером. Платона (Рожкова). – Козельск : Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, 2017. С. 473–474.
[24] Житие священномученика архимандрита Исаакия. С. 36.
[25] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 235.
[26] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 212.
[27] Там же. С. 210.
[28] Летопись скита Оптиной пустыни: в 2 т. Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь. 2022. – Т. 2: 1900–1918. Т. 2. С. 220–221.
[29] Там же. С. 246.
[30] ГАКО. Ф. 94. оп. 1. ед. хр. 49а. л. 4 об.; там же. Ф. 602. оп. 1. ед. хр. 17.
В месте смерти и скорби не должна угасать молитва
Сообщение игумении Анны (Морозовой), настоятельницы Свято-Успенского Николаевского женского монастыря Донецкой епархии на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», тематическая дискуссия «“Венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, брань без врагов не бываетˮ (свт. Тихон Задонский). Духовный подвиг монашествующих как путь к победе». (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)
 Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, братия и сестры, благословите!
Дорогие владыки, отцы, матушки игумении, братия и сестры, благословите!
Наша Свято-Успенская Николо-Васильевская обитель, основанная схиархимандритом Зосимой (Сокуром), расположена в селе Никольском под Донецком.
До начала войны это был большой и процветающий монастырь, с огромной территорией. Была богодельня на 100 человек, своя пекарня, пасека, хозяйство. Свой медицинский центр, воскресная школа и многое другое. Батюшка Зосима говорил нам, что неминуемо будет война. Мы слушали его, но совершенно не были к такому готовы.
С марта 2022 года наш монастырь оказался на линии боевого соприкосновения и находился в таком положении до сентября 2024 года, пока не отодвинулась линия фронта. Сейчас стало намного тише, мы теперь спокойно ходим по монастырской территории (а до этого два с половиной года передвигались перебежками).
Когда в 2022 году начались обстрелы, все спустились жить в подвальные помещения. В Успенском соборе у нас есть нижний храм, здесь мы и живем, и совершаем богослужения, и спим, и готовим еду. Для отопления установлены буржуйки, для приготовления пищи привозим газ в баллонах, еще еду готовим на туристических плитах. Электричество на несколько часов в день обеспечивается благодаря генераторам, воду также по часам качаем с помощью генератора из скважины.
За это время были разрушены ВСЕ монастырские помещения, разбиты все коммуникации. Туалетами пользуемся на улице при любой погоде, крыш в большей части зданий нет, в других они текут, и везде на проходах стоят тазы для сбора воды. Все помещения сырые и холодные, в храмах осыпаются фрески.
Бытовые условия для нормального существования полностью отсутствуют. Как шутят наши послушницы: «Летом мы моемся на озере.–А зимой? – Та сколько той зимы!»
В течение лета и осени 2022 года большинство насельников были эвакуированы. В монастыре осталось 50 человек братьев и сестер для того, чтобы ежедневно совершать суточный круг богослужения. Среди оставшихся есть 93-летняя схимница, которая также проявила настойчивое желание остаться. Матушка практически не поднимается, за ней ухаживают оставшиеся сестры.
Несмотря на то, что поменялись бытовые условия жизни, монастырский уклад не изменился.
День в монастыре начинается в 5 часов утра. Служится панихида, затем в 6.00 утренние молитвы, полунощница, акафист и Божественная литургия. После Литургии – трапеза, уборка храма, выполнение дел, необходимых для поддержания жизнедеятельности. Затем – дневной отдых и в 16.00 начинается вечернее богослужение: вечерня, утреня, повечерие, вечерние молитвы, каноны и заупокойная лития. День начинается и заканчивается поминанием основателя обители схиархимандрита Зосимы. Службы в обители ни на один день не останавливались. Даже при самых тяжелых обстрелах молитва продолжалась. Служить приходится с помощью налобных фонариков…
На передовой, на первой линии фронта, в месте скорби и смерти не должна угасать молитва. Обитель стала местом, где многие военные нашли поддержку и утешение, ведь они могут прийти в храм в любое время, помолиться о своих погибших боевых товарищах, принять таинство Крещения, исповедаться, причаститься Святых Христовых Таин. Пообщаться с насельниками, укрепиться перед тем, как идти в бой, который может стать последним в их жизни, и для многих стал. Вспоминается случай, когда ночью, в час ночи в храм пришли солдаты. Начали спрашивать батюшку. Один из солдат попросил срочно крестить его, рано утром они уходили на штурм. Мы срочно позвали священника, покрестили его и теперь молимся о нем. Ребята все были из Татарстана. Они нам свои шевроны оставили на память.
Военные были просто поражены, когда встречали на территории монастыря кого-то из насельников, – удивлялись, что среди такой разрухи теплится жизнь и совершаются богослужения. В селе из 3000 человек осталось всего 50 местных жителей.
Когда ты находишься в нижнем храме на богослужении –царит мир и покой, не ощущается ужаса войны, который предстает взору, стоит только подняться из храма на поверхность.
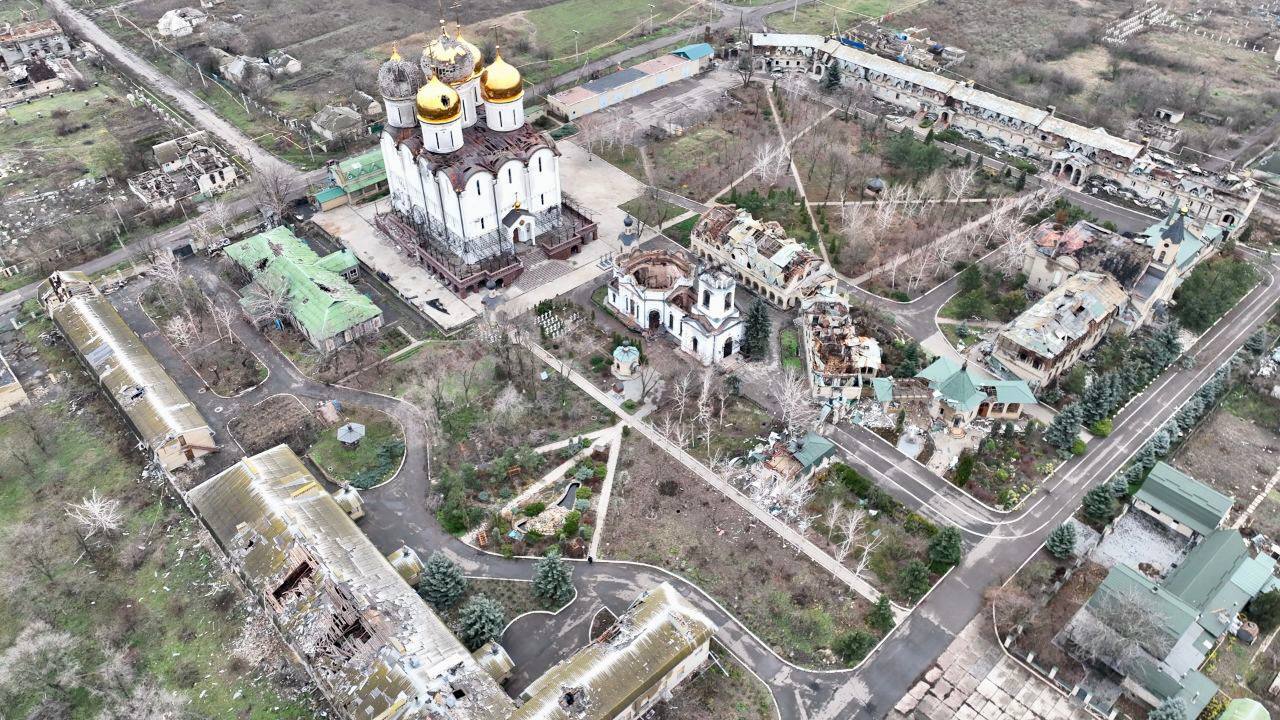 За это время на территории монастыря погибли семь человек, один из них священнослужитель, иеромонах Вонифатий, который погиб 31 января 2023 года от кассетной мины (тогда мы еще не знали, в чем особенность и опасность кассетных снарядов: они разрываются вверху и разлетаются на мелкие осколки, поражая при этом большую территорию.) В этот же день обитель накрыли хаймерсами – погибла схимонахиня Савва, она находилась в подвальном помещении сестринского корпуса, снаряд пробил три бетонных перекрытия, и сложившимися от удара плитами ей оторвало руки, повредило грудь и лицо. В самом начале войны от разорвавшейся вражеской мины у Васильевского храма погибла моя мама, раба Божия Анна.
За это время на территории монастыря погибли семь человек, один из них священнослужитель, иеромонах Вонифатий, который погиб 31 января 2023 года от кассетной мины (тогда мы еще не знали, в чем особенность и опасность кассетных снарядов: они разрываются вверху и разлетаются на мелкие осколки, поражая при этом большую территорию.) В этот же день обитель накрыли хаймерсами – погибла схимонахиня Савва, она находилась в подвальном помещении сестринского корпуса, снаряд пробил три бетонных перекрытия, и сложившимися от удара плитами ей оторвало руки, повредило грудь и лицо. В самом начале войны от разорвавшейся вражеской мины у Васильевского храма погибла моя мама, раба Божия Анна.
Через некоторое время ситуация усугубилась появлением над обителью э FPV-дронов, дронов-камикадзе, и стало еще опаснее подниматься на поверхность и ходить по территории монастыря. Стали также просматриваться и обстреливаться дороги, ведущие к монастырю, что еще больше усложнило снабжение монастыря жизненно необходимыми продуктами, топливом, газом. Приходилось ездить под дронами и снарядами, привозить продукты, топливо и другие необходимые вещи. Один раз, когда мы с водителем ехали в монастырь, прямо на нас летел дрон-камикадзе. Мы его перекрестили, читая 90-й псалом, он развернулся и улетел в другую сторону.
В июле 2024 года противнику удалось заминировать магнитными минами все дороги, ведущие к монастырю, обитель на несколько месяцев оказалась в блокаде: не было возможности подвезти ни хлеб, ни дизтопливо. За это время был такой случай, что одна из сестер пришла в обитель по заминированной дороге пешком, неся в руках сумки с хлебом. Военные мне тогда сказали, что эта сестра рано ушла в монастырь: «Дайте нам ее в разведку!»
Преодолевая внешние бытовые лишения, а вместе с тем и внутренние страхи насилия, смерти, потери близких, братия и сестры продолжают вести монашескую жизнь в разрушенной обители.
На фоне ужаса войны, в самые тяжелые минуты утешение и смысл жизни насельники находят в молитве, в совершении Литургии. В таких условиях ты постоянно обращаешься к Богу, чаще молишься, ведь любое передвижение по обители может стать последним.
Монастырь живет надеждой на возрождение и воссоединение всех насельников, которые были вынуждены эвакуироваться. Мы знаем и верим, что Господь не оставит нас, и с Его помощью обитель будет восстановлена, в ней снова будут царить мир и покой. Именно эта вера и надежда дает нам силы жить и молиться, несмотря на все испытания.
О различных аспектах духовной брани
Доклад иеромонаха Мелхиседека (Скрипкина), насельника Иоанно-Богословского мужского монастыря Рязанской епархии на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», тематическая дискуссия «“Венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, брань без врагов не бываетˮ (свт. Тихон Задонский). Духовный подвиг монашествующих как путь к победе» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)
 Наша победа состоит в одолении собственных грехов и страстей с Божией помощью. Венцом этой победы является приобщение благодати Святого Духа, которая доставляет душе человека ощущение личного счастья, а лучше сказать, блаженства – не только в вечности, но, по временам, еще и в этой земной жизни. Хотя стремиться к духовным удовольствиям специально – мы не должны.
Наша победа состоит в одолении собственных грехов и страстей с Божией помощью. Венцом этой победы является приобщение благодати Святого Духа, которая доставляет душе человека ощущение личного счастья, а лучше сказать, блаженства – не только в вечности, но, по временам, еще и в этой земной жизни. Хотя стремиться к духовным удовольствиям специально – мы не должны.
Кроме того, стяжание человеком благодати Святого Духа способствует духовному приображению окружающего его мира, по слову преподобного Серафима Саровского, сказавшего: «Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Стяжание благодати можно назвать подвигом, поскольку оно совершается не без преодоления своей ветхой природы, а также не без превозмогания естественной человеческой ограниченности (когда во время служения Богу и ближним хочется, по естественной потребности, и поесть, и отдохнуть, но необходимо, превозмогая свои желания, терпеть).
И все же, в первую очередь, подвиг стяжания благодати – это война или битва (по церковнославянски «брань») с невидимыми врагами: отверженными падшими духами, которые докучают нам своими прилогами, а также с собственными неискорененными страстями, которые бесы через эти самые прилоги (помыслы, мечтания) стараются в нас оживить и углубить, чтобы в конечном итоге сделать нас чуждыми благодати Божией и ввергнуть в ад.
Когда евреи, вернувшись из Вавилонского плена стали возводить второй Иерусалимский Храм, они, образно выражаясь, в одной руке держали строительный мастерок, а в другой – меч, поскольку поселившиеся на их земле враждебные племена старались помешать их строительству.
Их обоюдное делание было прообразом нашего христианского трезвения, то есть молитвенного предстояния Богу в духе сокрушения и смирения с одновременным наблюдением за вражескими прилогами, действующими совне, а также наблюдения за своим внутренним состоянием с целью не допускать возмущения страстей.
Святые отцы заповедуют нам трезвиться, чтобы невидимые наши враги – бесы и собственные наши страсти, через которые бесы обыкновенно действуют, не препятствовали нам обустраивать нашу собственную душу наподобие храма, не отвлекали бы от совершения там богослужения Господу Богу.
При нападении невидимых врагов через действие прилогов или при самопроизвольном взыгрании нашего падшего естества именно трезвение является насущно важным оружием в деле ведения духовной брани.
Так, на фоне молитвенного предстояния Богу, козни внешних и внутренних невидимых врагов становятся заметнее. При обнаружении этих козней (действия помыслов, взыграния страстей) мы можем выказать к ним свое нерасположение, и даже с гневом говорить им: «А я вам не соизволяю» и употребить против них краткую молитву, состоящую всего из нескольких слов, например: «Господи помилуй, Господи спаси, Господи, заступи».
Вообще гнев человека обладает следующим свойством: то, к чему он прикасается – он или отталкивает от себя, или даже разрушает. Однако наш гнев обыкновенно бывает слабым, так что нам удается всего лишь на несколько мгновений оттолкнуть от себя вражеские прилоги, а затем они вновь начинают нас одолевать.
Поэтому после употребления собственного нерасположения, гнева, обращенного ко врагу, необходимо обратиться за помощью к Богу, чтобы Он Сам разобрался с нашими обидчиками.
Бывает так, что проходит очень непродолжительное время: полминуты, минута, и искушение минует, или душа теряет к нему всякий интерес.
Чтобы вражеские прилоги не находили сочувствия в нашем сердце, необходимо заботиться о том, чтобы страсти, живущие в нас, были ослаблены, а еще лучше – мертвы. Для этого необходимо в своих молитвах периодически обращаться к Богу с просьбой, чтобы Он помог нам изжить наших внутренних врагов – страсти, как действующие, так и дремлющие.
Один престарелый схимонах научил меня молитве, которая может способствовать углублению в себе трезвенного молитвенного состояния:
«Господи, помоги мне увидеть мои грехи и страсти. Дай сил оплакать их. Пошли свою очистительную благодать, да избавлюся от них в конец»Интересный он был человек. В советское время, еще будучи мирянином, он из Ленинграда, где жил, – ездил в Казахстан и переписывал там творения святителя Игнатия (Брянчанинова), поскольку не мог их нигде достать в печатном виде; и потом всю оставшуюся жизнь руководствовался творениями святителя Игнатия, стал монахом, схимником.
После повторения этой молитвы несколько раз мы, возымев надлежащую покаянную настроенность по уму и сердцу, можем содержание этой молитвы (как общее переживание души) вкладывать в слова более краткой – Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго (или грешную)».
Есть и более развернутая, и, если можно так сказать, детальная молитва, помогающая возыметь покаянное расположение по уму и сердцу с тем, чтобы ее содержание (а лучше сказать – переживание) начать влагать в слова Иисусовой молитвы, в особенности, в слова «помилуй мя грешнаго или грешную». Благодаря этому плод от упражнения в Иисусовой молитве (как ощущение присутствия Бога в своей жизни, видение собственных изъянов) приобретается быстрее.
Хочется сказать еще об одном аспекте духовной брани – искренности нашего покаяния во время келейной молитвы, а также в Таинстве Исповеди.
Нередко случается, что, каясь в том или ином грехе, человек продолжает любить то удовольствие, которое этот самый грех доставляет. (Ведь мы грешим нередко, именно потому, что это приносит удовольствие, пусть и сомнительное.) И получается двоякая молитва. Уста, например, шепчут: «Господи, каюсь в гордости, избавь меня от нее». А сердце, вожделевая то удовольствие, которое эта самая гордость доставляет, на языке чувств добавляет: «Да, Господи, избавь, но так, чтобы меня все уважали».
В результате исповедь, покаяние не приносят душе облегчения. Ведь мы были неискренни перед Богом.
Здесь необходимо выказывать искреннее нерасположение, неприязнь ко греху, а также к самому греховному удовольствию.
Все эти аспекты духовной брани сопряжены со страданием, которого люди часто стараются избегать. Однако из благ надо выбирать большее, а из зол – меньшее. Или мы страдаем, сопротивляясь вражеским прилогам и страстям, и потом испытываем продолжительный мир как плод одержанной победы, или же принимаем помысл, удовлетворяем требованию разгоревшейся страсти, испытывая при этом сомнительное удовольствие, а потом пожинаем плод продолжительного страдания, которое иногда переходит с нами в вечность.
Поистине, из благ надо выбирать большее, а из зол – меньшее.
Они приблизили Победу. Роль Православной Церкви в годы Великой Отечественной войны – ульяновский период
Доклад игумении Сергии (Вотриной), настоятельницы Спасского женского монастыря Симбирской митрополии на XXXIII Международных Рождественских образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «“За други свояˮ – подвиг монашествующих во время Великой Отечественной войны» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)
В 2025 году наша страна отмечает 80-ле тие Победы в Великой Отечественной войне. Трагедия этой войны вошла фактически в каждую семью. В эти тяжелые годы и воины, и мирные жители, каждый на своем месте, совершали героические поступки, спасая жизни своих соотечественников, и так приближали день Великой Победы.
тие Победы в Великой Отечественной войне. Трагедия этой войны вошла фактически в каждую семью. В эти тяжелые годы и воины, и мирные жители, каждый на своем месте, совершали героические поступки, спасая жизни своих соотечественников, и так приближали день Великой Победы.
Важную роль в победе, одержанной нашим Отечеством, сыграла Православная Церковь: духовенство, монашествующие, а также и простые миряне. Вера дает человеку сугубую внутреннюю крепость, благодаря которой он может не только сам с честью пройти все испытания, но и оказать поддержку своим ближним, воодушевить их и укрепить их духовные силы. А в любой войне важна не только внешняя сила, но и, может быть, даже в большей степени – дух народа. На этой конференции мы услышали или еще услышим много свидетельств того, как верующие, священнослужители и монашествующие проявили эту свою внутреннюю, духовную силу в годы войны. И хочется добавить еще несколько свидетельств, в том числе из истории нашей Симбирской митрополии.
В самый тяжелый период войны, в 1941–43 годах, в Ульяновске (бывшем Симбирске) находился центр духовной жизни всей страны. Именно в Ульяновск в 1941 году было эвакуировано руководство Русской Православной Церкви. Вот как это произошло. Когда осенью 1941 года встал вопрос об эвакуации из Москвы глав различных религиозных организаций (Русской Православной Церкви, старообрядцев, обновленцев), в качестве места их пребывания был выбран город Чкалов (Оренбург). Поезд выехал 14 октября. Вместе с местоблюстителем Патриаршего Престола митрополитом Сергием (Страгородским) Москву оставляли митрополит Киевский Николай (Ярушевич), архиепископы Ивановский Иоанн (Соколов) и Можайский Сергий (Гришин), управляющий делами Московской Патриархии протоиерей Николай (Колчицкий), протоиерей Александр (Смирнов) и др. Через два дня во время долгой остановки на станции Рузаевка семидесятичетырехлетнему митрополиту Сергию стало очень плохо, в связи с чем конечная станция была изменена на более близкий Ульяновск, в ту пору бывший райцентром Куйбышевской области. Именно наш город стал местом пребывания предстоятеля Русской Православной Церкви почти на два года.
Нужно отметить, что в городе, когда-то богатом церквями (до революции в Симбирске было два монастыря, три собора, около сорока храмов), в 1941 году не осталось ни одного действующего храма. Первые дни по прибытии митрополит Сергий вынужден был жить в вагоне и лишь через неделю смог совершить первое богослужение в здании вновь открытой кладбищенской Воскресенской церкви. А через некоторое время под храм было переоборудовано более просторное деревянное здание бывшего католического костела на ул. Водников, 15: он стал кафедральным собором в честь Казанской иконы Божией Матери. Сам местоблюститель переселился в бывший домик ксендза при костеле, там же разместилась его канцелярия. Дом на ул.Водников стал центром Русской Православной Церкви.Именно сюда поступала корреспонденция из епархий, правительственных инстанций и из-за рубежа, приезжали с докладами епископы;здесь проводились совещания органов церковного управления, намечались планы устроения церковной жизни; в деревянном соборе совершались епископские хиротонии и впервые оглашались послания Предстоятеля к пастве.
Митрополит Сергий сохранял в Ульяновске обычный для себя распорядок дня, заведенный со дня монашеского пострижения: вставал в пять утра, вычитывал положенные правила, немного гулял на свежем воздухе, завтракал и в девять утра начинал прием посетителей. В три часа был скромный обед, и после небольшого отдыха митрополит занимался чтением корреспонденции, подготовкой ответных писем и церковных документов. Затем следовало чтение Библии – так называемый библейский урок. И вечером – скромный ужин, к которому приглашались все бывшие в тот момент в доме.
Предстоятель Русской Церкви много молился о победе русского народа. По воспоминаниям его келейника архимандрита Иоанна (Разумова), однажды в Ульяновске владыке Сергию было даровано откровение от Бога. В те дни, когда шли бои под Сталинградом, владыка сильно болел и лежал в постели, но как-то ночью он вдруг поднялся, с трудом положил три поклона и произнес: «Господь воинств, сильный в брани, низложил восставших против нас. Да благословит Господь людей своих миром!». А наутро по радио все услышали весть о разгроме фашистских войск под Сталинградом.
В те трудные годы важнейшим направлением деятельности Московской Патриархии было патриотическое воодушевление народа на борьбу с врагом и, в том числе, сбор средств на нужды фронта.
Именно из Ульяновска Предстоятель обратился к пастве с четырнадцатью воззваниями. В них он осуждал фашизм, а также сотрудничество с фашистами на оккупированных территориях, и призывал верующих помогать русскому воинству. «Отрадно знать, что семя, брошенное нашей Патриархией, дает богатые всходы, – писал он, например, в ноябре 1941 года. – Совсем недавно мы обращались к пастве, пробуждая патриотические чувства, а теперь патриотизм поднялся грозной волной для врага... Отрадно, что прихожане многих храмов организуют сбор средств на укрепление обороны нашей родины. <…> У русских людей, у всех, кому дорога наша отчизна, сейчас одна цель — во что бы то ни стало одолеть врага».
А 30 декабря 1942 года митрополит Сергий издал обращение о сборе средств на танковую колонну: «Повторим же от лица всей нашей Православной Церкви пример преподобного Сергия Радонежского, – воззвал он, – и пошлем нашей армии на предстоящий решающий бой, вместе с нашими молитвами и благословением, вещественное показание нашего участия в общем подвиге: соорудим на наши церковные пожертвования колону танков имени Димитрия Донского».
Верующие России собрали более 8 миллионов рублей, и 7 марта 1944 года митрополит Крутицкий и Коломенский Николай (Ярушевич) официально передал колонну из сорока танков 38‑му и 516-му отдельным танковым полкам. Кроме того, от Русской Православной Церкви офицерам полка были переданы часы с гравировкой. Впоследствии командир 2-й танковой роты 516-го полка, капитан Александр Бондарев, вспоминал: «Недалеко от меня разорвалась мина, и маленький осколок, пробив полушубок, китель, разбив вдребезги зеркальце, застрял в механизме подаренных часов. Не будь их, вероятно, осколок пробил бы сердце».
Кроме танковой колонны, на средства, собранные Церковью, была построена эскадрилья самолетов имени Александра Невского. А всего за годы войны верующими было внесено в Фонд обороны более трехсот миллионов рублей, большое количество драгоценностей и вещей.
В первых рядах жертвователей для фронта были и священнослужители и верующие Ульяновской епархии. Только от ульяновского Патриаршего собора в Фонд обороны было внесено около ста тысяч рублей. Большую сумму на строительство танковой колонны передал священник села Ивановка Константин Конарев. 5 июля 1943 года он получил от митрополита Сергия наперсный крест «за оказание помощи в построении танковой колонны на разгром врага и за патриотическую работу».
 Спасский женский монастырь.
Церковь Иверской иконы Божией Матери
г. Симбирск, фото нач. XX в.
Спасский женский монастырь.
Церковь Иверской иконы Божией Матери
г. Симбирск, фото нач. XX в.
|
Отец Константин был поистине духовным воином, облеченным во всеоружие по призыву апостола: примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, всё преодолев, устоять (Еф. 6:13.). Батюшка не только сам духовно противостоял врагу, но и вел за собой других. Он воспитал в духе самоотречения своих детей; шестеро из них участвовали в войне. Духовные чада батюшки тоже воодушевлялись его примером. Каждый видел, что священник не жалеет себя, разделяя с народом тяготы военного времени. И следуя за своим пастырем, прихожане старались помочь фронту, кто чем мог.
А будущий ульяновский иерей Василий Филиппов во время войны сам участвовал в боях в саперном батальоне, был ранен, имел награды, в том числе медаль «За взятие Берлина».
Принимал участие в Великой Отечественной войне и лучший звонарь Ульяновска Петр Федорович Уточкин, был ранен. В довоенное время ему довелось звонить почти на всех колокольнях церквей Симбирска. Петр Федорович был человек с чувством юмора и виртуоз своего дела: однажды батюшка попросил его: «Сыграй-ка, Петя, ты мне встречу пободрей!», тот и отзвонил ему на колокольне «Камаринскую». Примечательно, что его тетя, М.И. Лунина, была монахиней нашего Спасского монастыря.
Настоящим духовным воином можно назвать и архиепископа Варфоломея (Городцева), управлявшего Ульяновской епархией в 1942–1943 годах. В трудное время Великой Отечественной войны владыка вызывал общее уважение строгостью своей духовой жизни. Верующие считали его прозорливым старцем. В храме Ульяновска владыка по воскресным и праздничным дням проводил назидательные беседы на тему: «Образование внутреннего человека», обращался с призывами к родителям, чтобы они побуждали детей ходить в храм, молиться, изучать Закон Божий.
Во время войны подвиг совершили и простые верующие, миряне, включая стариков и детей. Их тоже можно назвать духовными воинами. Например, сестра нашей Спасской обители, монахиня Евпраксия (в миру Матвеева Антонина Ивановна), которой 14 января 2025 года исполнилось 93 года, рассказывала о подвиге своей семьи. Когда началась война, Антонине было восемь лет. Ее отца Ивана сразу забрали в армию, он вернулся домой только после 1945 года. С детьми были мать, которая сутками работала, и «высоковерующая» бабушка Агафья, которая и научила детей молиться.
Монахиня Евпраксия с большим благоговением вспоминает о своей бабушке, о ее великой вере и силе духа. Храма поблизости не было, но и в те храмы, которые были, не пускали. Бабушка соберёт всех внучат, на коленочки поставит лицом на восток, и они горячо молятся о всех родных, ушедших на фронт, и о даровании Победы. И была услышана детская молитва, с фронта все вернулись даже без ранений, кроме одного сына бабушки Агафии 17‑летнего Александра, погибшего под обстрелом.
По молитвам героической бабушки Агафии выжила вся семья, которая находилась под Воронежем. Им приходилось жить в погребе, а с неба летели бомбы, снаряды, кругом свистели пули и разрывались гранаты. Дети работали наравне со взрослыми, так как все мужчины были на фронте. Часто ели то же, что и скотина, за которой они ухаживали. Несмотря на это, делились всем, что имели, готовили еду из расчёта и для беженцев. Бабушка в эти тяжелые дни всех ободряла и вдохновляла, учила терпению и милосердию. Она всегда отмечала праздники, особенно Рождество Христово и Пасху. Помолившись в честь праздника, накрывала вкусный стол, старалась угостить всех, кого Бог посылал.
Несомненно, во многом благодаря духовной стойкости верующих, благодаря их вере, мужеству и самоотречению, стала возможна Победа.
Великую Отечественную войну с первых дней называли священной. Символично, что немецкое командование начало переговоры о капитуляции 6 мая – в день православной Пасхи, день победы жизни над смертью. При этом Светлое Христово Воскресение совпало с празднованием дня Святого Великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства.
Очень важно для нас вспоминать уроки войны. Прежде всего, не будем забывать, что главной духовной причиной войны было отступление от Бога, которое всегда является основной причиной скорбей в жизни человека и общества. А милость Божия даруется за покаяние и верность Богу. Эти уроки всегда актуальны для нас, ведь незримая духовная война против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных (Еф. 6:12) не прекращается никогда. И мы, христиане, в особенности монашествующие, призваны всегда быть в том всеоружии, которое описал апостол Павел (его слова мы слышим в чине монашеского пострига): Станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие (Еф. 6:14‒16).
Опыт духовного окормления воинов в условиях СВО
Доклад епископа Сергиево-Посадского и Дмитровского Кирилла, наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», тематическая дискуссия, «“Венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, брань без врагов не бываетˮ (свт. Тихон Задонский). Духовный подвиг монашествующих как путь к победе» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)
 Важность духовной поддержки воинов в зоне СВО, а также ветеранов в госпиталях и в мирной жизни
Важность духовной поддержки воинов в зоне СВО, а также ветеранов в госпиталях и в мирной жизни
Прошедший год ознаменовался качественным и количественным ростом присутствия военного духовенства в зоне боевых действий. Уже порядка 1500 священников вовлечены в это важнейшее дело. В зоне СВО совершено более 35000 крещений бойцов. Общепризнанным в науке о войне является понимание о силе психологической установки солдата, которое иногда даже называют «самым могущественным оружием… более могущественным, чем самый тяжелый танк, чем самое мощное артиллерийское орудие».
По свидетельству одного из офицеров СВО, «после совершения молебна и участия в таинствах чувствуешь облегчение. Поскольку война – это напряжение всех сил, и физических, и душевных, такое укрепление и поддержка необходимы. Даже если не все это осознают».
Нам известно множество случаев благодатной помощи через священническую молитву, церковные Таинства и даже простое слово назидания и поддержки.
Для всех нас очевидна необходимость духовного окормления и поддержки наших воинов, находящихся в экстремально трудных условиях СВО, а также в случаях получения ими ранений и инвалидности. Такое служение священника и его помощников требует искреннего, трудолюбивого и мужественного устроения души, когда мы, увидев боль, внешнее и внутренне страдание наших соотечественников, приготавливаемся разделить с ними тяготы суровых испытаний. В связи со слабой степенью воцерковленности многих воинов, их частой пассивностью в ответ на предложение пастырской помощи, а также серьезностью степени инвалидизации большого количества раненых, пастырская и просто христианская помощь на регулярной основе возможна здесь лишь в случае высокого уровня мотивации, поддерживаемой серьезной духовной работой священника над самим собой.
Основным фактором, влияющим на состояние боевого духа воина, является его мотивация. Это система ценностных стимулов, побуждающих человека, оказавшегося на войне, к выполнению боевых задач, связанных с риском для жизни и перенесением тяжелых психологических и физических испытаний.
Остро стоит задача поиска дополнительного количества волонтеров-мирян, которые могли бы проводить просветительскую подготовительную работу как в войсках, так и в госпиталях. Не менее важна деятельность приходов и обителей в информировании местного населения о «льготно-приоритетном» отношении к ветеранам СВО при посещении ими или их родственниками пространства наших храмов и околохрамовых территорий. К сожалению, статистика распада семей воинов вернувшихся с полей сражений СВО весьма неутешительна: в силу травматического психологического стресса, полученного в ходе военных сражений, мужчина не может найти покой в своей собственной семье, где жена, искренно ожидавшая возвращения мужа домой, оказывается полностью не подготовлена понести тяготу тех душевных переживаний, которые можно смело назвать «войной после войны». Поэтому каждый священник в наше время обязан подготавливать себя и паству к тому, чтобы находить такие нуждающиеся в помощи семьи и быть способным оказать нужную поддержку.
Святость служения воинского в православной традиции и в наши дни; понятие России как «удерживающей» силы
Для многих невоцерковленных солдат и офицеров разговор о христианской религии зачастую выявляет конфликт поверхностных знаний о заповеди «не убий» и о благословении, подаваемом воинам на применение летального оружия в сражениях. Насущной задачей является составление сборника ярких святоотеческих цитат и примеров подвижников благочестия и святых, раскрывающих положение о неприменимости высших истин евангельской нравственности даже в социальной жизни, а тем более на войне. Не может государственная власть проповедовать всепрощение, ибо тогда насилие и подлость не будут иметь никаких сдерживающих факторов.
Более того, по слову святителя Филарета (Дроздова): «война – священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости, в защиту правды, веры, отечества. Подвизающийся в сей брани оружием совершает подвиг веры и правды, который христианские мученики совершали исповеданием веры и правды, страданием и смертию за сие исповедание; и, приемля раны, и полагая живот свой в сей брани, он идет в след мучеников к нетленному венцу».
Схожие мысли выражал и святитель Феофан Затворник, говоря, что «на воинах и войнах часто видимое Бог являл благословение, и в Ветхом, и в Новом Завете. А у нас сколько князей прославлены мощами? Кои, однако ж воевали. В Киево-Печерской лавре в пещерах есть мощи воинов. Воюют по любви к своим, чтоб они не подверглись плену и насилиям вражеским. Что делали французы в России? И как было не воевать с ними?»
Пророчества святых XIX–XX веков единогласно свидетельствуют о судьбоносном значении России в противостоянии мировому злу. В частности, преподобный Лаврентий Черниговский задолго до современных событий предсказывал катастрофические нестроения на Украине, но в тоже время утешал верующих: «Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее Царство… Русского Православного царя будет бояться даже сам антихрист».
Здесь преподобный повторяет мысли великого святого Серафима Саровского. В воспоминаниях Елены Ивановны Мотовиловой, супруги Н.А. Мотовилова, верного «служки» преподобного Серафима, мы находим это удивительное и грандиозное по потенциальной силе вдохновения пророчество святого. Николай Александрович говорил супруге, что отец Серафим сказал ему: «всё то, что носит название “декабристов”, “реформаторов” и, словом, принадлежит к “бытоулучшительной партии”, есть истинное антихристианство, которое, развиваясь, приведет к разрушению христианства на земле, и отчасти Православия, и закончится воцарением антихриста над всеми странами мира, кроме России, которая сольется в одно целое с прочими землями славянскими и составит громадный народный океан, пред которым будут в страхе прочие племена земные. И это, говорил он, так верно, как дважды два – четыре» [1].
По свидетельству генерал-лейтенанта службы внешней разведки РФ в отставке Леонида Петровича Решетникова, спецслужбы Великобритании существуют уже 500 лет и «столько же лет занимаются Россией. И все эти 500 лет они считали и считают нас врагами. По их понятиям мы не такие, как они. В миропонимании, мироощущении, в межчеловеческих отношениях. Отсюда их непреодолимое желание поставить нас под контроль, ослабить, а лучше всего расколоть на двадцать квазигосударств. Не только по геополитическим, экономическим соображениям, но и по духовным». На вопрос журналиста об истоках такой непримиримости Решетников ответил весьма в православном духе, что Россия – «это тысячелетний продукт творчества русского народа. Она была не только и не столько экономической и политической альтернативой, но и духовной. То есть альтернативной цивилизацией Западу».
Как верно отметил протоиерей Дмитрий Василенков (заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами), священник не должен превращаться в замполита, перегружая свою проповедь политическими выкладками и соображениями, но минимальный уровень подготовки здесь все-таки необходим, чтобы ясно показать глубинные связи военно-политических событий и духовных реалий нашего мира, которые и привели к необходимости превентивных действий СВО.
Беседы о важности молитвы, Таинств в экстремальных условиях
На сегодняшний день существует необходимость оказать помощь нашим мужественным священникам, посещающим как зону СВО, так и военные госпитали, через собрание наиболее ярких примеров помощи Божией, подаваемой через молитву, благословение и Таинства. Предварить эти примеры можно цитатами из книги «Наука побеждать», автором которой является знаменитый русский полководец А.В. Суворов.
В четвертой главе «О воинском послушании, распорядке и должностях» в параграфе 27 под названием «О должности ротного командира» содержатся следующие указания: «Учрежденные при полку молитвы суть: 1-е – “Господи Иисусе Христе Боже Спаситель мой”, 2-е – “Символ Веры”, “Верую во Единого Бога”, 3-е – “Отче Наш”, 4-е – “Богородице Дево, радуйся”. Оные всем нижним чинам твердо знать и ежедневно поутру и ввечеру по оным Господу Богу молитца, читая их каждой вслух и наизусть».
«Солдату надлежит быть здорову, храбру, тверду, решиму, правдиву, благочестиву. Молись Богу! От Него победа. Чудо богатыри! Бог нас водит, Он нам генерал!» (Разговор с солдатами их языком).
Современных чудесных случаев на СВО сейчас такое множество, что впору объявлять конкурс на наиболее внушительно действующие истории.
Один священник из бывших военных отмечал, что «военный опыт, как ни удивительно, иногда мешает. Командир дивизии, у которого 10 тысяч солдат в подчинении, говорит: «Батюшка, останься священником! Военных у нас достаточно!» Нужен мужественный, отважный, но священник. Солдатам нужен отец, к которому они могут прийти и поделиться, когда тяжело». Здесь речь идет не только о важности доносимой информации, но и об авторитете священника как человека, открытого сердцем и душой.
Язык общения и образы – примеры в пастырской работе на СВО
Особенно стоит напомнить, что еще в начале XX века протопресвитер армии и флота Георгий Шавельский (в 1911 – 1916 гг.) писал: «Говори, батюшка, как отец с детьми, говори просто, без риторских прикрас, говори, как говорят близкие люди, говори обо всем, о чем благовременно поговорить…» В этом смысле подготовка священнослужителя в наше время строится таким же образом, требует от нас простого и ясного, но полного живой веры слова о Боге и Его промысле. Здесь снова перед нами стоит задача составления методических пособий для работы священников в армии.
Кроме ясности языка нужны образные примеры, показывающие благородство и пользу добродетелей, а также уродство и вред греховных привычек.
Приведем слова из личного опыта пастырского окормления воинской части игумена Феофана (Замесова): «Зачастую выступление перед солдатами в форме проповеди не всегда воспринимается армейской аудиторией. Общаясь с военнослужащими, надо учитывать, что большинство из них не только не воцерковлены, но и призваны с периферии, в связи с чем необходимо выстраивать свое выступление так, чтобы оно было доступно для слушателей. Несомненно, следует избегать терминов, непонятных человеку, далекому от веры. Опыт показывает, что донести до слушателей ту или иную духовную истину весьма помогают живые примеры, способные затронуть сердца участников встреч. Выбирая темы для своих выступлений, пастырь должен осознавать, что патриотическое воспитание молодежи в нашем обществе “оставляет желать лучшего”. Поэтому в своем выступлении перед воинским коллективом священнику, несомненно, следует касаться примеров из истории нашего Отечества, которые способствовали бы формированию у каждого из воинов понимания важности Родины и готовности встать на ее защиту. Таких примеров в истории России огромное количество».
Исповедь и Причащение воинов; «воинские грехи»; причащение «страха ради смертного»
Исповедь в условиях военных действий чаще всего приходится проводить общую. Однако важно пояснять воинам и необходимость частной исповеди при первой возможности, а также в мирной жизни. Кроме общего списка грехов здесь следует напоминать и грехи военного «профиля», среди которых есть и неведомые, как например гибель воинов от «дружественного огня», гибель или ранения мирных жителей, о чем в условиях современного боя человек может и не подозревать.
Полная подготовка ко Святому Причащению, а также соблюдение евхаристического поста чаще всего оказываются также невозможными. Но ради «страха смертного», то есть реальной возможности такого рода событий, когда это причащение станет для человека последним в земной жизни, допускается отступление от общепринятых правил благочестивой подготовки к принятию Святых Тайн.
Среди древних канонов эпохи Вселенских соборов есть 13-й канон святого Василия Великого, где сказано: «Убиение на брани наши отцы не вменяли за убийство, извиняя, как я думаю, как поборников благочестия». То есть, когда воины воевали с благородством, «благочестиво», отцы, предшественники Василия Великого, не смотрели на них как на согрешивших. Далее Василий Великий продолжает: «Но, может быть, и добро бы было советовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержались от приобщения только Святых Таин».
Следует отметить, что авторитетные толкователи канонов поздней Византии Иоанн Зонара и Феодор Вальсамон (XII в.) утверждают, что этот «совет» Василия Великого никогда и никем не исполнялся. Оба этих комментатора указывают на мнение святителя Афанасия Александрийского. В своем 1-м каноне святитель Афанасий Великий говорит, что одно и то же событие следует оценивать подчас диаметрально противоположным образом, в зависимости от обстоятельств и намерений. В частности: «не позволительно убивать: но убивать врагов на брани и законно, и похвалы достойно. Тако великих почестей сподобляются доблестные воины в брани, и воздвигаются им столпы (т.е. памятные стелы), возвещающие превосходныя их деяния. Таким образом, одно и то же, смотря по времени, и в некоторых обстоятельствах, не позволительно: а в других обстоятельствах, и благовременно, и допускается, и позволяется».
Свидетельства о причащении воинов на поле брани мы находим в дневнике отца Митрофана Сребрянского, будущего архимандрита Сергия, помощника преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, ныне прославленного как священноисповедника. Будучи военным священником во время Русско-японской войны, он оставил нам «Дневник полкового священника». Из этих записей отца Митрофана можно сделать следующий вывод: участие в боевых действиях не считалось грехом, делающим причастие воина невозможным.
Воины иных конфессий
Общение пастыря должно быть безусловно лишено критики других вероисповеданий. Как правило, во многих воинских частях есть солдаты, призванные из Татарстана, Башкирии, Дагестана, Чечни. Многие из них мусульмане. Также есть солдаты, призванные из Калмыкии и Бурятии, исповедующие буддизм. Если священнослужитель начнет в процессе проводимых мероприятий говорить, казалось бы, правильные слова о ложности этих вероисповеданий, он не только не приведет воинов-иноверцев к православию, но, напротив, оттолкнет и озлобит их, настроив отрицательно к православной вере, возможно, на всю их дальнейшую жизнь. Подобные действия, конечно, недопустимы. Нисколько не принижая значения и истинности православия, всегда нужно стараться подчеркнуть, что независимо от национальности, всех воинов объединяет одна Родина – Россия и одно общее дело – служение делу защиты родной земли. Нужно стараться рассказать о православной вере так, чтобы все присутствующие, в том числе и солдаты-иноверцы, ощутили потребность и интерес побольше узнать о Христовой Церкви и о ее учении, о жизни святых, о наших Таинствах и т. д. И, как показывает жизнь, именно таким образом удается если уж не привести иноверцев к Таинству Крещения, то хотя бы помочь им приобрести доброжелательное и уважительное отношение к Православной Церкви и непосредственно к православным верующим, в первую очередь к своим сослуживцам.
Окормление офицеров
Особенности при общении с офицерским составом подразумевают осознание того факта, что возможность донести слово о православной вере до их сердец будет иметь последствия, распространяющиеся на всё военное подразделение. Среди бесед с офицерским составом важно выделить темы борьбы со сквернословием, уважения к подчиненным, ответственности и молитвы за подопечных.
Если мы посмотрим на характеры таких великих военных руководителей, как знаменитые маршалы Великой Отечественной войны, то встретим общие для всех этих полководцев качества, говорящие об их высоком уровне культуры общения. Будучи великими полководцами, они не любили уничижать человеческое достоинство.
Например, в воспоминаниях дочери о маршале Иване Степановиче Коневе говорится: «что касается отношений с людьми… отец всегда считал важным сохранение человеческого достоинства. Унижение достоинства для него было совершенно недопустимо».
Великих полководцев, защитников нашей Родины объединяло одно важное качество, они относились к защите и освобождению территории своего государства, как делу священному. Приведем еще один пример из жизни маршала Конева о том, как важно воину иметь внутреннее трезвение, в том числе, чтобы не ожесточиться сердцем среди зверских преступлений врага. Наталия Ивановна Конева, дочь маршала, рассказывала, что, «отвечая за жизнь более чем миллиона солдат, которые были под его командованием, отец не хотел ожесточаться. Когда ему доложили, что войска 1-го Украинского фронта освободили Освенцим, он сказал: “Я не поеду. Я знаю, чтó там. Не хочу ожесточиться. Не жестокость должна вести полководца при освобождении территории”».
Несмотря на то, что Конев был вспыльчивым, мог «возмутиться, раскипятиться, накричать», он «быстро отходил». Более того, генерал-полковник, начальник штаба Покровский А.П. признавался, что «из всех командующих фронтами, с которыми он имел дело, Конев имел «больше всего человечности, в его характере, в натуре… надо было послушать, как он разговаривал с солдатами. Это не был показной разговор: вот командующий поехал и поговорил с солдатами. Это был естественный разговор. За этим стояла его солдатская суть, солдатская натура. Он с солдатами говорил так, ибо иначе и не мог говорить, с абсолютным пониманием солдатской жизни, души, с абсолютной естественностью, с полным отсутствием чего-либо показного или нарочитого» [2].
Образец настоящего командира мы находим также в лице маршала Константина Константиновича Рокоссовского. Обладая такими качествами, как такт, мужество и храбрость, он проявлял заботу о подчиненных, чем сумел снискать любовь не только солдат, но и офицеров: «От служивших под его началом никто не слышал про маршала ни одного дурного слова. Его искренне любили. Не позволявший себе рукоприкладства и грубостей, не прятавшийся за спинами подчиненных, он вызывал симпатию, и все, от генерала до солдата, знали, что там, где Рокоссовский, будет сделано всё, чтобы минимизировать потери».
Человечность и забота о подчиненных – общие отличительные черты военачальников – героев Великой Отечественной войны. Из воспоминаний маршала А.М. Василевского о командующем армией и фронтом Иване Даниловиче Черняховском: «В бою Черняховский находился на наиболее ответственных участках... Он чутко прислушивался к мнению подчиненных… Солдаты, офицеры и генералы любили своего командующего прежде всего за человечность и заботу о них, за отвагу и бесстрашие… за прямоту и простоту в обращении… за требовательность к себе и к подчиненным. Да, он был строг и требователен. Но никогда не позволял себе унижать достоинство человека…»
Из воспоминаний о Черняховском маршала К.К. Рокоссовского мы узнаем те же самые черты: «Молодой, культурный, жизнерадостный. Изумительный человек! Было видно, что в армии его очень любят. Это сразу бросается в глаза. Если к командарму подходят докладывать не с дрожью в голосе, а с улыбкой, то понимаешь, что он достиг многого. Командиры всех рангов остро чувствуют отношение старшего начальника, и, наверное, мечта каждого из нас – поставить себя так, чтобы люди с радостью выполняли все твои распоряжения».
На примерах «маршалов Победы» мы видим, что вежливость и тактичность по отношению к подчиненным не имеют ничего общего с нерешительностью, неумением принимать решения или управлять подчиненными.
А.М. Василевский отмечал, что «требовательным и настойчивым был Л.А. Говоров. Внешне он казался сухим и даже угрюмым, но на самом деле он был добрейшим человеком. Он никогда ни на кого не повысит голоса, и если был чем-то недоволен, то либо смолчит, либо пробурчит что-то про себя. Организованности Леонида Александровича можно было позавидовать».
О самом Василевском говорили, что его скромность «вполне уживалась с твердостью и решительностью его характера, если дело касалось планов операций». Те, кто близко знал маршала, говорили, что «он был очень мягким и вежливым человеком, предпочитавшим не приказывать, а убеждать своих подчиненных».
Вопреки многим неправдам, которые когда-то говорили про маршала Жукова, последний очень ценил солдат, и, прежде чем отправить их в бой, он «прекрасно отдавал себе отчет в том, что именно он делает. И всегда был готов нести ответственность за жизни своих подчиненных».
Большое внимание следует уделять научению офицерского состава избегать сквернословия: В Послании апостола Павла к Ефесянам (5:4) сказано: сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение. В толковании на данный отрывок святитель Феофан Затворник говорит: «Сквернословие – αισχροτης – собственно срамотность, – срамные приемы, взгляды, движения, одежда, все поведение срамотное, или распущенность, свидетельствующая о нечистоте и к ней соблазняющая. Но, конечно, преимущественное проявление этой срамотности есть срамословие, – срамные речи, с которых и начинаются обычно срамные дела».
По слову святителя Иоанна Златоуста, «лучше извергать гнилость изо рта, нежели сквернословие» [3]. В то же время на интернетных площадках можно встретить ложное мнение: американские исследователи якобы установили, что русские выиграли Вторую Мировую войну, потому что использовали матерные слова – краткие, непонятные для противника команды. Конечно же, это является неправдой. Бороться с матерной бранью приходится во всех армиях. Есть свидетельства, что в американской армии запрещается ругательства для того как раз, чтобы при передаче команды не было «засорения», чтобы четко было понятно, что тебе приказывают [4]. Cуществуeт также отдельная статья (article 134) воинского закона, которая запрещает использование неуставного, непотребного языка. Эта статья, по объяснению комментаторов, «важна для поддержания целостности и дисциплины армейской жизни» [5].
Местонахождение священника – различие мнений
В основном священнику не советуется присутствовать в первой линии обороны, но, согласно свидетельствам военного священника протоиерея Дмитрия Василенкова, на войне случаются экстренные ситуации, когда священникам приходится выходить на первую линию, чтобы поддержать воинов перед боем или непосредственно во время боевых действий. «Это очень важно, хотя, к сожалению, не все командиры это понимают: священник действительно является проводником силы Божией в этом мире. Через него Бог может изменить ситуацию: не только укрепить дух воинов, но воздействовать на саму реальность и преобразовать ее благоприятно для сражающихся бойцов. Присутствие священника в критической ситуации может кардинально изменить ее».
Тем не менее, в основном существует практика не допускать священнослужителей (в старое время они приравнивались к старшим офицерам) на первую линию, так как они являются ценными кадрами.
По мысли другого священнослужителя [6], который больше семи месяцев занимается окормлением воинов, служение военного священника – это особое служение, оно требует подготовки, навыка, специального подхода. «Чтобы подготовить хорошего спецназовца, нужно лет 10; для подготовки хорошего священника тоже нужно лет 10, а то и 15. Это ресурс очень ценный, трудоёмкий, нельзя им разбрасываться. Поэтому я считаю, что священников нельзя отправлять на линию боевого соприкосновения – даже с соблюдением всех правил безопасности».
Священник, попав в зону военных действий, должен обязательно носить средства бронезащиты. Работа в подразделениях и временной график согласуются с командованием. Если командир говорит, что посещение какого-то подразделения в данный момент в связи с военной обстановкой невозможно, значит, следует повиноваться. Работа осуществляется в дневное время, ночью всякое движение блокируется, но бывают исключения и из этого правила.
Священник посещает подразделения с выделенным охранением согласно графику. Перед посещением необходимо внимательно выслушать инструктаж об обстановке в зоне посещаемого подразделения. Общение с военнослужащими чаще всего происходит в предоставленных защищенных укрытиях. На позициях не следует собирать толпы бойцов, а также необходимо укладываться в выделенное время. Важно помнить, что любая временная задержка может привести к огневому поражению от противника.
-----------------------------
[1] Мотовилова Е.И. Из воспоминаний о муже Николае Александровиче. Серафимо-Дивеевские Предания. – М.: Паломник, 2006. С. 444.[2] Беседа с бывшим начальником штаба Западного и Третьего Белорусского фронтов генерал-полковником Покровским Александром Петровичем. Запись Константина Симонова. Предисловие и публикация Л. Лазарева // «Октябрь». 1990. № 5.
[3] Толкование свт. Иоанна Златоуста на 2-е послание к Коринфянам. Беседа 6.
[4] Chris Flynn.The language of war. [Эл.ресурс] URL: https://overland.org.au/2010/10/the-language-of-war/
[5] What is Article 134 UCMJ [О134 статье Единого кодекса военной юстиции]? [Эл.ресурс] URL: https://ucmj.us/what-is-article-134-of-the-ucmj/
[6] Иерей Александр Абрадушкин, клирик женского монастыря Царственных Страстотерпцев в селе Домнино Костромской области.
Подвиг монашествующих Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и православной миссии на Псковщине во время Великой Отечественной войны
Доклад митрополита Псковского и Порховского Матфея на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «“За други свояˮ – подвиг монашествующих во время Великой Отечественной войны» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)
В преддверии празднования 80-летия Победы нашего народа в тяжелой войне с фашистской Германией очень важно напомнить молодому поколению, какой дорогой ценой были возвращены нашей Родине свобода, независимость, мирное небо над головой. В течение долгих, мучительных четырех лет, наполненных страданиями, слезами, кровью, наш народ трудился не покладая рук, приближая долгожданную великую Победу. Все от мала до велика встали на защиту Родины с готовностью «положить душу за други своя», проявляя тем самым высокое чувство любви не только к Родине, но и к ближнему.
Церковь всегда поддерживала русский народ, разделяла его судьбу, даже в годы самых тяжелых испытаний и потрясений. Не осталась она в стороне и во время страшных военных дней.
Псково-Печерская обитель также оказалась в центре военных событий. Войска фашистского режима быстро продвигались по Прибалтике, и уже в 1941 году в Печоры вошли немцы и заняли город. Все советские организации срочно эвакуировались из города Печоры в тыл.
Монастырь продолжал подчиняться как митрополиту Таллинскому Александру (Паулусу), так и экзарху Прибалтики митрополиту Сергию (Воскресенскому).
В 1941 году в святой обители произошли некоторые перемены: архимандрит Парфений (Шатинин), человек широкой души и замечательный хозяйственник, любимым выражением которого было: «Слава Богу за всё!», – ушел на покой по старости лет, тем не менее, продолжая нести послушание эконома. А настоятелем в первый же год страшной войны был назначен игумен Павел (Горшков). В этот момент все тяготы, связанные с оккупацией, легли на плечи одного отца Павла, бывшего уже также в преклонных летах, однако очень деятельного человека и сострадательного к людям.
 Военные годы были очень трудными для обители. Ее насельники стойко переносили тяготы, лишения и тяжелое бремя оккупационного времени, возлагая особую надежду на защиту и покровительство Пресвятой Богородицы. Не оставляя ни на минуту горячей молитвы к Царице Небесной, монахи несли труды по сохранению монастыря.
Военные годы были очень трудными для обители. Ее насельники стойко переносили тяготы, лишения и тяжелое бремя оккупационного времени, возлагая особую надежду на защиту и покровительство Пресвятой Богородицы. Не оставляя ни на минуту горячей молитвы к Царице Небесной, монахи несли труды по сохранению монастыря.
В военное время игумен Павел продолжал совершать богослужения и проповедовать, убеждая потерпеть, уверяя, что лучшие времена непременно настанут. Около 100 школ и деревень посетил он, поддерживая взрослых и детей. Вспоминая это страшное время, отец Павел говорил: «Мне было до слез больно, я боялся и считал, что детей без Бога оставить нельзя».
Но не только миссионерскую работу проводил настоятель, он также трудился по хозяйству монастыря, помогал престарелым в богадельне, больным и, конечно, военнопленным.
Так, в августе 1941 года, в Псковскую больницу, Дом инвалидов и госпиталь лагерного пункта № 134 из Псково-Печерского монастыря было отправлено 153 пуда продуктов: хлеба, муки, крупы, сухарей, овощей, картофеля, мяса, яиц, часть из которых во время благотворительной поездки отец Павел сопровождал лично. Такую помощь нуждающимся монастырь оказывал неоднократно, несмотря на многочисленные трудности и препятствия, которые чинила в то время Печорская комендатура. Милосердие, отзывчивость, доброта настоятеля и братии воистину не знали границ.
С 1941 по 1944 год на оккупированной территории Псковской области по благословению экзарха Прибалтики митрополита Сергия (Воскресенского) начала свою деятельность Псковская миссия, которую возглавил протоиерей Кирилл Зайц из Риги.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своей книге «Православие в Эстонии» пишет: «Необходимость Псковской миссии была очевидной. К началу Великой Отечественной войны на всей территории Псковской области действовали только два храма — в Пскове и Гдове. Верующие встречали миссионеров с исключительным воодушевлением. Повсеместно открывались новые и, где возможно, восстанавливались сохранившиеся храмы. К исповеди и Святому Причастию приступали тысячи людей, крестили детей, создавали катехизические курсы для взрослых, пастырские и богословские курсы, во всех школах преподавали Закон Божий».
Псковская миссия издавала информационный бюллетень, окормляла много приходов, а ее деятельность осуществлялась на добровольные пожертвования. За три года работы миссии было создано около 200 приходов, было зарегистрировано 175 священнослужителей. Рижская духовная семинария занималась подготовкой пресвитеров для приходов.
Духовная атмосфера этого периода на Псковщине лучше всего описывается словами архимандрита Кирилла (Начиса), в то время – еще псаломщика в Псковской миссии. Он говорил, что «народ жаждал молиться, жаждал покаяния».
Но вернемся к монастырской жизни в военные годы.
Наступил решающий для Псковщины 1944 год. 25 февраля 1944 года гебитскомиссар Бекинг распорядился упаковать наиболее ценные предметы ризницы с целью их последующей эвакуации. Об этом подробно написано в неопубликованной статье архимандрита Алипия (Воронова) «По следам монастырских сокровищ». Монахи очень настороженно отнеслись к этому распоряжению и не торопились выполнять приказ. Почти пятьсот лет сокровища хранились в ризнице, их не выносили из стен монастыря несмотря ни на какие войны и осады крепости. Однако на дальнейшую судьбу ценностей повлиял воздушный налет 6 марта 1944 года. Одна из бомб упала напротив Успенского собора, повредив железную лестницу и «сделав воронку в аршин глубиной». От воронки бомбы до ризницы с монастырскими сокровищами оставалось всего лишь несколько метров. После этого насельники приступили к работе по упаковке ценностей.
17 марта 1944 года, по приезде в монастырь референта окружного комиссара Шиффера, игумену Павлу с братией были представлены две бумаги с распоряжением Прибалтийского экзарха Сергия и гебитскомиссара Бекинга об эвакуации ризницы.
18 марта 1944 года представитель немецкого командования Берг отправил четыре ящика с драгоценными предметами в Ригу.
Игумен Павел (Горшков) очень переживал о судьбе ризницы и обращался в разные инстанции с просьбой гарантировать возврат ценностей в монастырь после изменения обстоятельств военного времени к лучшему.
Тем временем линия фронта приближалась к городу Печоры. В ночь с 31‑го марта на 1‑е апреля 1944 года был совершен авиационный налет на город и монастырь. Чудесным заступлением Царицы Небесной не было ни одного прямого попадания бомб ни в одно из зданий обители. Городские жители укрывались от бомбежки в пещерах для овощей. В городе осколками бомб было убито несколько человек, а в монастыре от осколка бомбы погиб схиепископ Макарий (Васильев): «Молитвенник и Евангелие на аналое были залиты кровью. Остановившиеся часы показывали 9:47 вечера». Так, в один момент, духовный воин, вознося непрестанные молитвы за русский народ, вымаливая Победу, перешел в Небесное Царство и был погребен в Богом зданных пещерах, в которых покоится большое количество монахов-воинов, в том числе и тех, кто самоотверженно защищал нашу землю во время Великой Отечественной войны.
Впоследствии, уже после великой Победы, архимандрит Нафанаил (Поспелов), насельник Псково-Печерского монастыря, рассказывал о посещении обители одним из летчиков, участвовавших в бомбардировке города и монастыря, и как тот был удивлен, что после их авианалета монастырь остался целым.
Один из фронтовиков, в 90-х годах работник министерства связи – Сергей Яковлевич Новиков поделился тем, как в 1944 году он с группой разведчиков, на протяжении нескольких дней после выполнения задания скрывался от немецких захватчиков в пещерах святой обители, а монах втайне приносил им для поддержания сил хлеб и воду. Однажды на экскурсии в монастыре он узнал на фотографиях этого человека, им оказался ныне почитаемый нами преподобный Симеон, в то время – иеросхимонах.
Вернемся к обстановке в монастыре весной 1944 года. В то сложное время мнения братии в обители разделились: кто-то хотел выехать со всеми святынями в Эстонию, боясь репрессий, другие склонялись к тому, чтобы, предавшись воле Божией, остаться в монастыре. После обстоятельного обсуждения братия во главе с настоятелем приняли решение не предавать обитель, но остаться в монастыре и сохранить достояние Пресвятой Богородицы, полагаясь во всем на волю Божию.
В августе 1944 года игумен Павел ходатайствовал о принятии Псково‑Печерского монастыря в каноническое общение с Московской Патриархией, на что 4 сентября 1944 года была наложена резолюция временно управляющим Ленинградской епархией Высокопреосвященнейшим Григорием, архиепископом Псковским и Порховским, с благословением предоставить дополнительные сведения.
Весь сентябрь отец Павел старался наладить канонические отношения с епархией и деловые – с местными властями. В октябре, совершая торжественное богослужение на престольный праздник обители, Покрова Божией Матери, он возносил молитву ко Господу и Пречистой Его Матери о том, чтобы в монастыре не оскудела братия, о помощи не только в деле ремонта разрушенной войной обители, но и больным, инвалидам, сиротам и вдовицам. А 17 октября 1944 года последовал неожиданный его арест со страшными обвинениями по статьям УК РСФСР об измене Родине, антисоветской агитации и пропаганде, организационной контрреволюционной деятельности. Было заведено следственное дело № 1178‑44 г. Вместе с ним были арестованы еще три человека. В то время настоятелю было 77 лет, и он был приговорен к 15 годам лишения свободы.
18 июня 1990 года в оперативно‑справочный отдел МВД ССР поступило сообщение, что Горшков Павел Михайлович умер 6 июля 1950 года в местах лишения свободы Кемеровской области (Сиблаг).
В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в 1997 году Псково‑Печерский монастырь получил радостное известие о реабилитации игумена Павла.
Медленно залечивались раны войны. В послевоенное время в число братии входили тридцать три человека: два архимандрита, игумен, девять иеромонахов, один старец, четверо иеродиаконов, шестеро иноков и десять послушников.
Молитвы братии о победе русского воинства и народа в годы Великой Отечественной войны были услышаны Богом через предстательство Царицы Небесной. Даже, казалось бы, неверующие офицеры сердцем чувствовали и ценили молитвы братии Псково‑Печерского монастыря.
После Великой Отечественной войны в Псково‑Печерскую обитель приехали старцы с Валаама, перед войной перевезенные со святого острова в Финляндию. Иеросхимонахи Михаил (Питкевич), Лука (3емсков) и другие старцы были как бы духовным мостом, соединяющим Старый Валаам и святую Печерскую обитель.
Среди насельников обители 1950–1980-х годов было много бывших фронтовиков. Некоторые из них пришли в монастырь уже после окончания войны, кто-то в поисках спасительного пути, кто-то по обету. Легендарный наместник Псково-Печерского монастыря с 1959 по 1975 год, талантливый художник, коллекционер русского и западноевропейского искусства, передавший в дар Русскому музею Ленинграда, Псковскому музею-заповеднику и Печорскому краеведческому музею свою коллекцию картин, выдающийся иконописец, прекрасный проповедник – архимандрит Алипий, а в военные годы – Иван Михайлович Воронов дал слово Богу, что если в этой страшной битве выживет, то обязательно уйдет в монастырь. Именно на войне он пришел к вере в Бога: «Представьте себе: идет жестокий бой, на нашу передовую лезут, сминая всё на своем пути, немецкие танки, и вот в этом кромешном аду я вдруг вижу, как наш батальонный комиссар сорвал с головы каску, рухнул на колени и стал… молиться Богу. Да-да, плача, он бормотал полузабытые с детства слова молитвы, прося у Всевышнего, Которого он еще вчера третировал, пощады и спасения. И понял я тогда: у каждого человека в душе Бог, к Которому он когда-нибудь да придет». Его однополчанин и непосредственный командир, Станислав Андреевич Меньшиков, вспоминал, что отец Алипий был тяжело ранен под Витебском, и когда лежал на поле, по которому проходили вырвавшиеся из окружения и прорвавшие линию фронта немцы, добивавшие всех раненых русских солдат, решил притвориться мертвым и произносил про себя: «Если я останусь жив, то я вечно буду с Богом, и вечно буду Ему молиться». И немцы прошли мимо него.
За годы Священной войны Иван Воронов сражался на разных фронтах: Центральном, Брянском, 1-м Украинском, участвовал во многих боях. Был награжден орденом Красной Звезды, медалями за боевые заслуги, за взятие Берлина, Праги и другими. Будущего наместника, как рядового солдата, выделяла хорошая физическая и военная подготовка, от других он отличался дисциплинированностью, упорством, внимательностью, решительностью и бесстрашием. Отец Алипий во время тех страшных дней не забывал и о своем таланте живописца, помогая реставрировать разрушенные храмы, когда он проходил по освобожденным землям.
Нельзя не сказать несколько слов и о других героях войны, которые приняли решение окончить свои земные дни воинами Христовыми Псково-Печерского монастыря.
Монах Феофилакт (Белянин Константин Николаевич) окончил медицинский факультет и в возрасте 24 лет был призван на фронт в августе 1941 года. Прошел всю войну, получив звание подполковника медицинской службы, и удостоен множества наград. В 1960 году Константин Николаевич был уволен в запас с правом ношения военной формы одежды. Вскоре он поступил в монастырь и принял монашеский постриг с именем Феофилакт.
Монах Анания (Лисовский Максим Иванович) родился в 1910 году. Воевал в составе 788 артиллерийского полка 262 стрелковой дивизии. Был награжден двумя медалями и тремя орденами. Двадцать три года своей жизни провел, подвизаясь в Псково-Печерской обители, скончался в возрасте 88 лет.
Игумен Киприан (Новиков Карп Родионович) родился в 1901 году в Смоленской области. В августе 1941 года был призван на фронт. Участвовал в боях за Сталинград и освобождение Югославии. Отец Киприан награжден двумя медалями «За боевые заслуги». После Победы над немецко-фашистскими захватчиками поступил в Псково-Печерский монастырь.
***
В ХХ веке Псково-Печерский монастырь разделил с Отечеством тяжелейшие испытания. Но те древние традиции, которые братия бережно хранили в монастыре, не были утрачены даже в самые страшные для русского монашества времена. Пресвятая Богородица является Покровительницей Псково-Печерской обители и всей Псковщины. Особенно ярко это проявилось в тот момент, когда молитвами Царицы Небесной Псково‑Печерская обитель Промыслом Божиим была по Тартусскому договору 1922 года отнесена к Эстонии и оставалась там вплоть до 1940 года, чем была спасена от всеобщего разорения и осквернения. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь – один из немногих в России, не прерывавших в XX веке своего молитвенного предстояния Богу, оставаясь рядом с народом и в радости, и в беде. Несмотря на то, что в конце Великой Отечественной войны он лежал практически в руинах, непрестанная молитва братии, постоянный труд помогли преодолеть разруху и привести обитель к благолепию.
Святая Псково-Печерская обитель и по сей день остается негасимым светильником православной веры, надежной опорой и нерушимой стеной, помогая выстоять в тяжелое для всей страны время.
Последствия отступления от Бога и отсутствия духовного подвига
Доклад архимандрита Варлаама (Максакова), наместника Свято-Георгиевского мужского монастыря Уфимской епархии на XXXIII Международных образовательных чтениях «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», тематическая дискуссия «“Венец без победы, победа без подвига, подвиг без брани, брань без врагов не бываетˮ (свт. Тихон Задонский). Духовный подвиг монашествующих как путь к победе» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь Москвы, 29 января 2025 года)
 Монашество, несомненно, имеет самое большое влияние не только на Церковь, но и на все общество: Страдает ли один член – страдают с ним все члены; славится ли один член – с ним радуются все члены (1 Кор. 12:26). Посему духовный подвиг каждого монашествующего в отдельности и всех монашествующих в целом влияет на ход событий всей мировой истории.
Монашество, несомненно, имеет самое большое влияние не только на Церковь, но и на все общество: Страдает ли один член – страдают с ним все члены; славится ли один член – с ним радуются все члены (1 Кор. 12:26). Посему духовный подвиг каждого монашествующего в отдельности и всех монашествующих в целом влияет на ход событий всей мировой истории.
Но что представляет собой духовный подвиг монашествующих? Суть монашеского подвига состоит в усвоении монахом навыков добродетели. Духовное делание заключается в том, чтобы дать уму и сердцу занятие богоугодное. Подвиг этот весьма труден, но без него невозможно достигнуть совершенства.
Где был подвиг, там рождались преподобные Сергий, Серафим Саровский, Амвросий Оптинский, святитель Феофан Затворник. Там, где не было подвига, не было и святых. Те, кто избрали путь служения Богу, этим самым служат и ближним, исполняют долг своей любви к ним. Святые обители подвижников – это и школы, и проявление истинной любви к людям, и носители духовного спасения для мира. Именно святые показали свое служение народу примером молитвы, молитвы неустанной, бодрой, неунывающей, высокой и одухотворенной. Через них люди смогли приблизиться к Богу, очиститься от грехов, получить отраду сердца, радость души в страданиях, бодрость и веру.
Чем мы можем подражать святым сейчас? Мы можем показать народу ту величавую, умилительную, несказанную красоту нашей церковности и богослужения, чтобы затрепетали души от дивных молитв и песнопений Церкви, чтобы чувствовали они себя во время богослужения в райском блаженстве, в общении с ангелами, чтобы незаметно пролетали для них часы продолжительных молений. Чтобы подобно древним послам святого князя Владимира мог говорить народ: «За вашими службами, бдениями, молениями, славословиями, среди этой красоты церковной в общении со всей братией – мы не знаем, где находимся, на земле или на небе». Если мир так ценит всякую красоту: красоту слова, архитектуры, художества, искусства, то как же лишить общество безмерно высшей красоты – церковной?
И все же, к сожалению, на протяжении нескольких столетий происходит повсеместный общий упадок духовности как среди простых верующих, так и среди монашествующих. Уже святитель Игнатий (Брянчанинов) говорил: «Ныне ослабевшее христианство приготовляет и доставляет, соответственно своему состоянию, слабых монахов». Со дня написания этих слов прошло более полутора столетий, Русская Церковь преодолела десятилетия гонений, в течение которых монашество было фактически уничтожено, а монашеский опыт утрачен, поэтому соблюдение древних иноческих правил даже в их легчайшей форме сегодня уже можно назвать подвигом. Когда монашество теряет свои достоинства, простой народ начинает терять веру в Бога. В результате чего Господь попускает людям страдания, болезни, различные бедствия.
По какой причине произошел Всемирный потоп, почему погибли Содом и Гоморра? Гибель людей в этих событиях произошла не от войны, а от жизни без Бога. Ибо Я отнял у этого народа мир Мой, говорит Господь (Иер. 16:5). Господь истребил нечестивых людей, потому что они утратили всякое духовное начало, стали плотскими и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время (Быт. 6:5).
После выхода евреев из Египта, всякий раз, когда во главе иудейского народа вставал правитель, совершавший нечестивые поступки, то грешить начинал и народ. Желая их исправить, Бог посылал на израильтян иноплеменников, которые мечем и войной покоряли их. Когда же иудеи начинали раскаиваться в греховной жизни, Господь посылал им спасение и освобождение. В периоды покаяния и богоугодной жизни иудеи были непобедимы, даже с самым малым числом воинов. Не численность войск решала исход войны, а Бог; побеждала та сторона, которой отдавала победу воля Божия. И все же иудеи закончили свою историю самым страшным грехом, который когда-либо знало человечество, – распятием Иисуса Христа. После этого Господь окончательно отверг ветхий Израиль и избрал Новый.
Но разве Бог не бичевал новый Израиль, разве не сокрушал их мором и войной? Когда их постигали бедствия, они взывали к Богу и Он, прощая, посылал им мир. Потом они грешили опять, и Он, наказывая, попускал войну.
Бог знает, что в беде человек обращается к Истине. В мире и изобилии люди становятся безбожными и эгоистичными. Отсюда пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Византия погибла от того, что исповедовавшие Бога византийцы жили не так, как повелевал жить Божий Закон, знанием которого они похвалялись. Их постигло то, о чем сказано в Евангелии: Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много; а который не знал и сделал достойное наказания, бит будет меньше (Лк. 12:47–48).
Христос не утверждал, что не будет войны, он лишь учил, чтó надо делать, чтобы не допустить ее. Услышите о войнах и о военных слухах <…>, ибо восстанет народ на народ и царство на царство (Мф. 24:6–7). Предсказав войны – вплоть до последних времен, Христос упомянул также о причине их: Ибо восстанут лжехристы, лжепророки и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь (Мф. 24:12). Лжехристы будут указывать людям ложные цели жизни; лжепророки будут ложно предсказывать события; беззакония и охладевшая любовь поведут людей ложными путями. Одни не будут знать ни цели, ни пути жизни. Другие, зная цель жизни, по слабости характера пойдут по ложному пути.
Кто не ведет войну против самого себя, против своих страстей, пороков, грехов, – то, что и называется «духовным подвигом», – тот неминуемо ведет войну против Бога и своих ближних.
Если земля наша стала Россией, лишь приняв Православие, то точно так же она перестанет быть ею, как только откажется от веры своих отцов.
Когда наш народ начинал отходить от христианских ценностей, во все периоды истории России, начиная со времени крещения славян в Киеве, Господь попускал войны и скорби. В каждой войне, которая создавала угрозу порабощения нашего государства, был сокрыт божественный призыв на покаяние, обращенный ко всему русскому народу. Наибольший упадок нравственности как монашествующих, так и мирян произошел в XIX – начале XX века. Результатом этого была революция, переросшая в гражданскую войну. Люди не успели заметить, как произошел столь быстрый переворот в их сознании, и они под лозунгом «Власть народу, земля крестьянам» крушили всё на своем пути, предавая христианские идеалы, разрушая Божьи храмы, монастыри, уничтожая лучших людей России: врачей, учителей, инженеров, купечество, казачество. Святые отцы, жившие незадолго до этого времени, предрекали и оплакивали грядущую участь Церкви и Отечества.
Господь попустил безбожной власти возглавить наше государство, чтобы Русская Церковь испытала гонения и очистилась от греховной примеси. А чтобы привести в Церковь новых людей, Бог попустил начаться Великой Отечественной войне – самой кровопролитной за всю историю нашего государства. Именно тогда народ пробудился от сна неверия и обратился к Богу. Оказываясь в условиях войны, видя перед собой смерть, всякий человек задумывался о вечности, а некоторые давали обещания изменить свою жизнь и посвятить ее служению Богу. Победа в Великой Отечественной войне досталась нам не вследствие военной удачи или силы, а благодаря духовному подвигу как монашествующих, так и простого народа, который в трудные моменты нашей истории начинал обращаться к Богу с молитвой. И сегодня современная сложная политическая ситуация в мире, возникновение других конфликтов, несущих опасность для всего рода человеческого, порождается и сопровождается отпадением от всего Божественного.
Когда страна уклоняется или полностью отпадает от чистоты православной веры, тогда она враждебно начинает смотреть на другие государства и разделяется изнутри, а меньшинство, имеющее своей идеологией безбожие, начинает управлять страной. Такой «Народ, отпавший от Единого Живого Бога, становится, в сущности, мертвым народом. Душа его, как тень, колеблется в мире. Нужны землетрясения, потоп, мор или война, чтобы сдуть эту тень», – говорит святитель Николай Сербский.
Каждый человек, исправив свою жизнь, исправляет частичку этого враждующего мира. Установив мир в своих помыслах, он приобретет мир души и сердца, это и будет самый главный вклад в дело установления мира во всем мире.
На основании всего сказанного можно сделать вывод, что причины всех войн заключаются в отступлении от Бога христианских народов и их правителей. Причины эти тождественны с причинами войн, от которых страдал и погиб Израиль, бывший некогда солью и светом мира. Эти причины должны быть быстро уничтожены покаянием и возвратом к Богу, потому что иначе целый ряд будущих войн, несомненно, приведет к гибели христианские народы. Победа в таких войнах обусловлена покаянием. Победит тот народ, который, будучи призван на войну Божиим Промыслом, покается раньше других и, воззвав к Богу, исправит свои грехи. Воля Божия дарует победу тому, у кого самая ясная и крепкая вера в Бога, кто исполняет Его Закон.
